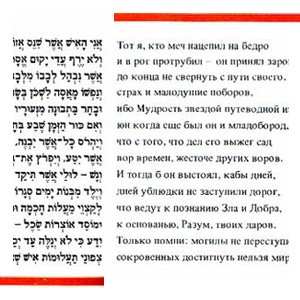
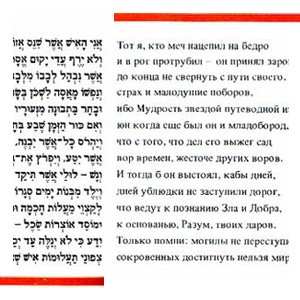
Переводы
Хаим Гури
«Огненные цветы»
Задумчивая чужая страна.
Большая закатная тишина.
Добрые старые времена.
Парки. Традиции. Вид на Монблан.
По озеру Леман скользят суда.
С весел лениво скользит вода.
По капельке истекает день.
Цветы. Оркестры. Кафе.
Беззвучье в зеркальных стоит дверях.
Жандарм в умопомрачительных галифе
с приятностью: «Мерси, месье».
Дама с цветком в кудрях.
Здесь кровь с моего не стекала виска,
речка Рон не несла тела,
здесь не втаптывали войска
младенцев моих в торцы.
Здесь не падали навзничь дома – и дотла!
как пораженные громом слепцы,
здесь не теребил лохмотьев знамен
бравурный ветер времен.
Ты молчала, голубка моя, а всего
в паре миль – восходил, шел к небесам
и глодал их голодный дым.
Прости, ласточка, горечь мою и желчь,
ты невинна, прелесть моя...
Ты же не видела, Genéve, Genéve...
Иду, в вечерней иду тени.
Над озером Леман гаснут огни.
Тьма на горных хребтах вдали.
И тогда я заглядываю в лицо
суровое, жесткое – навсегда
оскорбленной моей земли.
Дани и его друзьям
Смотри: вот лежат наши тела.
В ряд – как на поверке – лежат солдаты.
Неузнаваемые. Не дышим.
Смертью дует из наших глазниц.
Гаснет день. К холмам спускается вечер.
Смотри: мы не способны встать, чтобы
в последних лучах заката
любимых своих обнять, взять гитару,
нежно тронуть струну или – птиц
молодым криком вспугнуть из крон,
где запутался ветер.
Смотри: вот согбенны и немы матери наши.
Каменеют друзья.
А в небе – зарницы и пожары.
И – канонада все ближе: наливается буря!
Однако – так ли уж надо нас хоронить?
Под свинцом мы еще можем встать, как тогда,
в смертельной ярости возродиться.
Огромные, страшные – поковыляем мы
в контратаку,
ибо – в спавшихся наших аортах
огонь горит мертвецов!
И мы никогда не изменим.
Смотри: автоматы – при нас, пусть без
боезапаса.
Но – мы готовы... Еще не остыли стволы –
оружие помнит присягу до последней пули
в стволе.
Мы сделали все, что могли:
мы кровью полили наши следы –
все до последнего рядового.
И чем мы виноваты, что к вечеру этого дня
мы лежим,
и губы каждого, кто погиб,
припали к скалистой этой, этой трудной,
невыносимой земле?
Смотри, как открылась ночь во всю ширину.
Звезды цветут во тьме. Запах сосен сильней.
Похороните сейчас нас – глыба земли на лице,
возле окопов, вздыбленной проволоки, где
мы лежим.
Новый рассвет, не забудь нас! Новый день,
не забудь!
Мы носили имя твое, пока не заснули навеки.
Вот лежат наши тела.
В ряд – как на поверке. И мы не дышим.
Но дышит ветер в горах. И утро сияет в росе,
в каждой капле ее.
Мы вернемся, еще вернемся –
цветами красными. Вы узнаете нас.
«Это горный отряд безмолвный», – поймете.
Мы расцветем, когда отгремит последний
выстрел в горах.
«Роза ветров»
О белой голубке предание,
с голубиных небес опустившейся мне на плечо.
О голубке предание,
прилетевшей ко мне с синих кровель высоких
небес
милосердия и сострадания.
Мы молчали.
Меж нами и ветер боялся пройти:
он спугнет тишину, а потом не угонится.
Я шепнул: «Ах! найти себе место приюта
тебя угораздило, горлица!..»
Притча о непорочной голубке,
ко мне на плечо вдруг слетевшей в легчайшем
парении –
бьется сердце ее горячо,
пока я не коснулся губами еще
и не покраснело еще –
белоснежное – нету белей! – оперение.
Наследство
Барашек подвернулся в конце. Под занавес.
Нет, не знал Авраам, что агнец – и есть ответ
на невинный вопрос юнца. А был этот
мальчик – завязь
мощи неслыханной Авраама на склоне лет.
Авраам поднял седую голову, осознавая:
это не сон. И воочию ангел стоит.
И нож из руки его выпал сам.
Чудесным образом развязались веревки.
Глаза юнца нашли спину отца...
Заклание, как сказано выше, не состоялось.
Пророк Исаак долго и счастливо жил, пока
в свой срок очи его не померкли.
Что ж до наследства, то опять и опять –
и всегда одинаково –
повторяя опыт этих мгновений и дрожь –
от рожденья потомство Исааково
в сердце носит жертвенный нож.
1
Тогда, на перекрестке, в декабре,
под фонарем мне рассказала крошка Кати
об истреблении людей.
«Но ведь бывают чудеса на свете, – я сказал,
– бывают:
одно добавочное незначительное чудо и –
над тьмой, – взмолился я, – тотчас взойдет
заря».
История ее – черней зари вечерней
над этих улиц белизною неживой.
Сколько сестер ее, пленительных и нежных,
спят, снежной пеленой укрывшись с головой.
2
И – вопреки: мужчины, меченные смертью,
в объятьях женщин, жизнью не отмеченных,
лежат...
И я держал свечу над ними.
...в объятиях безмужних и невенчанных лежат –
ни слов признаний, ни свиданий, ни букетов.
И я держал свечу над ними.
...но для Кати настанет день – хуппа-шатер
над крошкой Кати раскинется... и шлейф невесты,
и конфеты, и конфетти, и кружево фаты.
И я держал свечу над ними...
3
...я смотрел в туман,
он лег на шпили башен и кресты,
он лег – полупрозрачный – на тихие фигуры
у собора сгрудившихся святых.
А мне в лицо дышала греза – перегаром.
...но над крошкой Кати – настанет день –
раскинется хуппа,
и под фатой, свой шлейф влача шуршащий,
она пройдет под волны свадебного марша!
4
Я возвратился в номера,
набитые надсадным кашлем, криком ночных
кошмаров.
Я квартировал меж номерами палачей и жертв.
Сквозь стену, вдруг ставшую рентгеновским
экраном,
сквозь стену сна я видел:
белоснежный букет, влекомый темной медленной
водой,
в прожекторах, в мертвящем свете...
...но крошке Кати к свадьбе... пусть охапку...
охапку пусть преподнесут едва раскрытых
алых роз!
5
Мертвы цари. И все владыки смертны.
И только спящий сам и безраздельно
владеет сном.
А я средь мертвых – я был мертвым!
Но с хрустом сломано декабрьское безмолвье –
всего от женского смешка, прикосновенья,
когда сквозь судорогу льда я вдруг увидел:
город!
Мир города без стен – весь солнцем залитой!
Ах, Кати! Будут пусть твои печали позабыты,
когда ты солнечной пройдешь дорогой той!
Да в чей же мозг чудовищный вместилась
мысль – украсть
судьбы твоей последний золотой!
6
Но, разметав толпу теней, опять восходит
солнце,
и реки входят в русла, возвратившись к ним.
Все возвращается: столицы, идеалы.
Как дамы к зеркалам – чуть-чуть устало
(к утру, после ночного блуда
продолжительностью в жизнь).
Бретельку подтянуть. То-се. Подмазать грим.
Рутинно возвращается весна –
и снова мир и резок и объемен;
и вот роскошные июльские дожди
смывают все, как сладостные ливни из лизола.
С тем – сервус, милая. Храни вас Аноним.
Полночь. Ночи тысяча девятьсот сорок седьмого
года.
Одна из полночей того января.
Снег на городе, который – был.
Снег на городе, которого – нет.
Снег на лохмотьях его одежд –
драных шелках эпохи кайзера,
времен гусар,
времени вальсов.
Ночь – над батальонами татар,
марширующих по бульвару Марии-Терезии.
Над взрывами американского хохота
возле дворцовых решеток Шенбрунна.
Над пачкой «Пелл-мелл» –
цена девчонки в ночной рубашке.
Над банкой тушенки «Булл-биф» –
цена ее двух ночей.
Грузовики «Джойнта», как неотложки,
подкатывают к «Ротшильд-шпиталь»,
подвозя травмированный еврейский народ,
меняющий на толкучке фотоаппарат
на горсточку робкой надежды.
Ночь в баре «Казанова».
Черные из «US-Army» в красном топчутся свете
со златокудрыми девушками.
Снег на невыговоренных словах,
принадлежащих мертвым.
Полночь. Одна из ночей сорок седьмого года.
Ночь – на ампулах, приготовленных
для уколов в мышцы зараженного города.
Снег – на улицах.
«Запретная зона» (на четырех языках).
Выходит, что вход в квартал опасней
самой войны...
Снег – на бронзовых крупах коней,
морозом схваченных на бегу.
Снег – на каменных девах,
еще сберегших свою невинность.
Правду,
всю правду,
ничего, кроме правды.
Голый,
как новорожденный,
Голый, как омытый мертвец.
Ни города – убежища,
ни рогов храмового жертвенника – ничего
на опускающемся горизонте.
Голый, голее некуда.
Один. И нет одиноче.
Язык – за зубами.
Если язык развяжется...
А если в конце концов –
язык развязать?..
Голый. Лицом – к горам.
И не поднять руки, чтобы отстраниться.
Эта усмешка отрогов гор,
когда человек произносит: «Я...» –
и все. И больше ни слова.
Вороны вносят имя его
в свой черный список.
Сирийско-Африканский геологический разлом
пролег через мой хребет:
дымы... эхо вулканов... и т.д., и т.п.
Идя навстречу волнам слухов о тектонике дня –
выйдете на меня.
Я – живое свидетельство катаклизмов –
еще чадят опаленные скалы –
смерти моей по плечо.
Но что я помню?.. кроме как – птичьи стаи
за полчаса перед трясеньем земным...
Беженок-птиц – перед землетрясением, беженок
в небо,
в сохраняющие дистанцию с нашей землей –
небеса...
Воды сходят теперь уже в другие моря, куда
и смывают наносы прежних клятв, долгов,
обещаний...
Дура беспамятная – вода!
...от отчаяния тотчас
исцеляющая вода!
Я весь – гражданская война.
И это я стреляю
в меня, поставленного у стены.
Военный трибунал
работает посменно.
Не гаснет свет в застенке бело-голубом.
Для правых правые – отличные мишени.
А после – тишина.
То есть – цепочка звеньев
из тьмы, усталости и гильз опустошенных.
Я – ночь, что в беззащитном городе легла.
Бери меня любой.
Интермеццо
Вечер сдает позиции тьме и тишине.
Все наши – от линии лба до союза рта
с подбородком –
приходят к порядку покоя.
Отбой: наши – голодные, все – рядовые,
все – приходят в себя, сбросив ужимки величия и страданья.
Южный легкий проходится ветерок по моей
жизни,
по ничейным пространствам ее,
распахнутым и широким.
Возвратясь из изгнанья, я вижу: облака и
деревья.
Пешим порядком. Без спешки. Некуда
торопиться.
Все наверстаем. Не опоздаем.
Южный ветер навстречу шлет сосны, как
парламентеров, –
сдать ключи от города, преображенного
в россыпь огней.
В этот час я покупаю свою свободу молчать
и свою надежду
в тех краях, где ни ангела, ни знаменья.
Пушинка на утесе. Вот, мне возмещаются
годы мои забвенья, годы мои печали –
пушинкою на утесе. Я повторяю: «Пушинкою на
утесе»...
И мне представилось вдруг,
что я могу проговориться словами,
которые с губ моих выпорхнут сами и в полете
не встретят себе подобных...
Я опираюсь о дерева ствол, дерева над кладом
времен –
времени, что транжирится, что уходит сквозь
пальцы
над кладом фиолетово-черного сокровища
времени.
Не жадничая – уступлю. Поделюсь спокойно.
А из того, что является мной, –
из этого моего молчания – нынешним
повечерьем
медленно появляется, вступает некто иной.
Как поезда,
сумасшедшие поезда,
с ума сошедшие навсегда поезда,
скорые поезда –
в ночи туннелей –
всегда –
– да – да – да! –
всегда слишком длинных туннелей.
И не выйти из них –
их слишком много ведет в никуда,
в никуда –
этих ночей и туннелей...
Опоенные, соблазненные поезда
(кем и когда?
когда и куда?),
по расписанию к призрачной цели
гнавшие век свой бег в никуда –
по различимой едва, еле-еле
колее в два железных ряда.
Сквозь ожерелья ночных фонарей,
вспышкой целующих в спину,
на-пе-ре-бой-в-то-ро-пях-все-ско-рей! –
поцелуи ночных фонарей
в составной позвоночник змеиный.
Фонарей, что стоят по местам
прошлого в прошлом, – оставлены там
вслед поездам освещать до утра
ночи позавчера.
Как поезда,
несущиеся сойти с ума
под откос своей любви.
Составы,
летящие, приподнятые повагонно...
И – на взлете! – упасть,
соскользнуть все ниже –
и там расцепиться,
разбиться о зеркало темной воды
внизу под мостом –
в конце своей любви!..
Раненное в сердце железо,
лбом прободающее черный воздух,
чтобы вернуться к воплю!.. И к продолженью
того, что было... как было прежде...
Как поезда, как поезда,
прибывающие медленно поезда,
поезда успокаивающиеся
у влажных станций,
у мокрых перронов.
Вот платформа...
Так-так, еще немного...
И тут! – уф! – медленно...
Я возвращаюсь.
И нахожу тебя сонной и безмятежной.
I
Октябрь. Сумерки. Мабийон.
Этот вечер – он ни Богу, ни времени...
Он ничей, он не принадлежит ни эпохе,
ни родине,
расположенной где-то в области сердца.
Низкого небольшого зала
нависшие потолки. Подвал. Своды подвала,
в котором от сих до сих – с десяти до пяти –
тебе позволено вычеркивать имена и даты,
физиономии населенья столицы,
позволено быть одному. С собою наедине.
Один на один. И никого за плечами,
и никого у плеча –
сам себе город без стен и не за что уцепиться.
Один в бутафории тесного зала –
собрания галлюцинаций,
битком набитого сонмом призрачных лиц,
жарко и медленно выплывающих из декораций.
Один на один и с собою наедине.
Не имея ни в прошлом начал,
ни в будущем продолжений.
И нечему продолжаться.
Один.
Настоящее время высвечено и освещено.
В жизни уже никто не окликнет.
Хотя бы одно лицо
родное. Но ни души.
Все вокруг – чужие.
II
Ночи,
сами приближающие себя к зиме.
Ночи
начинаются рано – в пылающих фонарях.
Ветер встает
весь в листопаде
и пешком идет по столице,
лицо которой задолго выучил я
по слухам о ней –
и с книжкой узнал страницы.
Эта осень
совсем не похожа на осень в моей стране.
Парки не те, аллеи не те...
Мысли о ней тесней,
готическим набраны шрифтом,
чтоб уместиться
в головах горожан, идущих навстречу мне,
повадкою всей и одеждой принадлежащих
осени в их столице.
Осень весьма не похожа на
осень в моей стране.
И когда в назначенный час заката –
для прогулки с собою наедине
чужестранец покидает отель,
он на город смотрит в упор
и слушает его гул,
соображая,
какая часть города есть
гранит и литой чугун,
а какая –
легенда серая и чужая.
III
Вспышки фонарей не отпечатали на брусчатке
негатива тени его, не сохранили его шагов.
Фонари свет бросают на мост, парапеты, реку,
на человечество города, где ни одного человека,
бывшего другом ему. Или врагом.
Вечер по табелю – от прохлады до лязга
зубов –
в счет декабрьско-январских долгов
раздает авансы,
парк обходя кругом.
Чужак продолжает – шаги продолжает,
попытки потеряться
то в нежилых адресах,
то в ночи, то во тьме,
то в огнях,
на краю которых
смыкаются
низкие облака.
Чужак продолжает – идти,
притворяться не собою,
но опять одиночкой
(по-другому притворяться не удается)...
...не разыскивается
...не виновен
...не помнит
...не сознается
IV
Я стоял в центре площади,
в сердце розы ветров.
В городе,
где имени нету мне и времени нету мне.
Посередине жизни моей –
лет, расходящихся от меня.
Я стоял в сумерках –
на грани ночи и дня, –
подпирая стену, чей век – древней моего,
а тяжесть и крепость – прочнее моей,
под грозовым фиолетовым небом, краем
еще принадлежащим дню.
Я стоял под обложенным низкими тучами
небом –
без штандарта над головой,
без столицы своей за спиной,
я стоял со сжатыми кулаками,
полными слабоумного прилежанья
и радостной памяти войн.
V
В ночи нет следователя. И
подследственного – нет.
Агента справедливости,
спешащего вслед моим шагам
в пустынном переулке или вдоль парапета
над холодною рекою,
в которой только фонари полощут свет.
Кодекс причастности,
как и законы притяженья,
случайная мелодия затрет.
Здесь длится ночь
полгода – каждый год.
Меж (дальше некуда) какой Европы зданий
плутает некто – чужестранец,
обходя бочком не разделявших
ни его грехов, ни покаяний –
и слыхом не слыхавших о таком?
Для них – не стоящим вниманья пустяком:
он жив? он мертв? он здесь? он далеко?
На гору Мория он не полезет сам.
Отчет о том, как прожил годы,
в клочки! И по ветру – и отлетают
к небесам –
порхать над родиной чужой свободы.
VI
Когда бы ты меня не удержал,
то я бы путь спокойно продолжал
по направлению (в конце концов, что может
здесь произойти?)...
Шел, чтобы к вечеру границу перейти.
Вергилия не пригласивши конвоиром,
авось и потерялся бы в ночи;
далеко-далеко за этим миром
под псевдонимом... И – ищи-свищи...
Айда в Возможное! Оно открыто.
Без тяжести в ногах, недвижности гранита –
пойдем вслед дню, сошедшему во тьму.
Пойдем! Без всяческих «зачем?» и «почему?».
Пусть нет благословения тебе,
но нету и проклятья на судьбе!
Здесь в моде песенка, мотив ее хорош,
а в ней рифмуется и стоит медный грош:
амур-тужур, дружок, амур-тужур...
Ворота распахнутся, задрожат!
Войдем. Одна средь многих – госпожа
стоит в толпе, одна освещена
она багровым отсветом печей,
в которых этой Ночью-Всех-Ночей
пекут хлебы Таинственных Вещей.
VII
Ибо там,
там привратник спал у порога
и поэтому – нараспашку
были ворота.
За железными створами их –
Дорога
в города и ночи
иного рода.
Именно там, где сияют люстры,
мелькают рожи –
там безымянный этот архипелаг
и расположен,
там – в зияньи меж местом и временем.
И книга у края стола.
Но тоже не любопытствуй, прохожий!
Остановиться –
и книга захлопнется
на самой нужной странице:
книга закрыта...
Рука сжата в кулак.
Именно отсюда и исходят
самые совершенные
легенды о грехах наших
и прегрешениях,
увлекательнее которых нет на земле...
Рука, так и не прикоснувшись к ним,
отдернется.
И бессильно уляжется на столе.
VIII
Святая Земля. Караванный «Путь голода»,
марева вид:
мóрок Имáры
за озерами зноя стоит.
Тень мою топчут мои же сандалии. Полдень.
Соленый поход до Эйн-Трейбы – следы...
Обморок под хихиканье горькой воды.
IX
Исходная позиция. Позиция наступления.
Ночь:
полу-жизнь, полу-моление.
Там –
благостью осененные,
избранники, посвященные,
праведники
славного города
славы-и-справедливости –
славное,
праведное население.
Там –
солнце Гивона!
луна Аялона!
источники трепета, величия духа
повсеместные проявления...
Исходная позиция. Позиция наступления.
Одичавшее солнце. Оскал
черепа, доставшегося по наследству
воронью и пустыни лютым пустым пескам,
а также торжественным годовщинам,
перипетиям, следствиям и причинам
(и явленьям реальности – но слегка).
Свет на человека! И на
глаза зажмуренные!
А затем
весь свет – на будущее. Освещена
долина сухих костей.
За ней – мозаичный храмовый фриз,
лестница: вверх – вниз –
и – наискосок
носились ангелы вверх и вниз
и с веселием пели...
И никакого спасенья ни от них,
ни от их голосов.
X
Черный рояль умирает степенно
среди нот своих и бемолей,
черный рояль издыхает.
И – желтый врубается верхний свет.
Свет на лужах краденой,
а значит, сладкой
воды – играет.
Желтый свет на клятвах тех,
кто забивает гол в свои же ворота,
желтый свет на мечтателях и на любовниках –
свет.
XI
Нынче пустые стоят баррикады.
Никто не стреляет.
Слякоть. Дождь и туман.
Героику
мы отложим до завтрашнего утра.
Сегодня ночью
никаких протестов писать не буду.
Пусть их!.. Не обнажу клинка.
Сегодня судьба –
ослепленный Самсон
чудовищными плечами
не обрушит капища колоннаду,
и никакой Амос –
во тьме и буре –
не высадит раму окна отеля,
чтобы проклясть справляющих праздник в дымной ночи Бет-Эля.
Камень выкатывается из ватной моей руки,
падает рядом.
Осадная лестница подламывается,
опрокидывается назад.
И – ослепительная темнота.
Я – ось. Мое «Я» человека фосфоресцирует
в точке,
в центре. «Я» – ось светящихся стрелок
на циферблате тьмы.
Воля и сила рассеивают последние резервы
надежды.
А если чуда не произойдет?
Вторая волна подкреплений идет на штурм
цитадели
в моей груди.
А что, если чуда не произойдет?
Отряды идут и роты; еще человека судьба, еще
похоронка.
А что, если чуда не произойдет?
В тылу собирается жалкая горсть резерва:
охрана тяжелораненых отговорок, недобитых
причин пораженья
вкупе с последними добровольцами арьергарда...
А если чуда не произойдет?
Гарнизон дезертировал: все смылись.
Ушли, бросив посты у ворот и оград.
И никто
не стоял между городом и – тьмою
со стрекотом в ней цикад.
Гарнизон уходил во тьму все дальше и дальше.
Практически можно было на каждой из улиц
зайти в любой брошеный дом,
посидеть, вздремнуть,
не опасаясь пули в грудь.
Гарнизон ушел, чтобы никогда не вернуться.
В другой город, что за туманом
куполами в ночи блистал.
Там молча женщины сняли с мужчин
тяжкую обувь из грубой кожи,
пыльную парусину и военный металл.
Гарнизон ушел. В туман. Утонув в ночи
безвозвратно.
Никто не всплывет, не придет обратно –
их спины плывут в тумане –
они ушли насовсем.
Колокол отбивает часы
на городской башне
над брошеной мебелью
в городе без стен.
Мне всегда мерещилась тишина
в последних строках песни Деборы.
То беззвучие ожидания запаздывающих колесниц
Сисры –
напряженная тишина.
Я вижу мать Сисры в окне – женщину,
в волосах которой
на глазах – все отчетливее –
серебром течет седина.
Парчу почти что воочию видят ее служанки...
Золотые шнуровки и роскошь парчовых
трофейных одежд!..
А он –
как во сне, откинутая рука
пуста и разжата, –
а он лежит посреди шатра, и на подбородке
потек сукровицы, масла и молока.
Безмолвие так и не смято тяжестью колесницы...
Служанки молча жмутся друг к дружке. Мое
молчанье
затесалось в их стайку, прижалось и встало
рядом...
В свой черед, наконец, и солнце зашло.
В свой черед, наконец, стемнело.
И на сорок лет – тишина.
Сорок лет покоя.
Сорок лет земля не носила мертвых всадников.
Мертвые колесницы
не шли голова к голове тяжело в галоп.
А она – умерла. Почти сразу по смерти сына.
Возвратясь, он на месте родного города
обнаружил волны,
залив, дельфинов. Водоросли прибоем качались
мерно.
Солнце зависло над краем неба.
«Ошибки всегда повторяются дважды», – сказал
Одиссей и вернулся
назад к перепутью, чтобы точно узнать дорогу
к родному городу, который волнами никак уж
не был.
Усталый, он брел в гуле толпы, как в тоскливом
привычном кошмаре,
толпы, чей греческий был ему малопонятен –
запас словарный,
который он взял с собой как запас провианта,
высох, порастерялся...
На мгновенье ему показалось, что он очнулся
от сна:
новые равнодушные люди
не узнавали его и даже не удивлялись.
Он их расспрашивал (слов не хватало) –
знаками! Встречные честно
и бестолково пытались понять его. Отчужденно
пурпур все лиловел и лиловел, выцветая на
горизонте.
Вышли взрослые, развели окружавшую стайку
детей по домам. В домах загорались окна.
Одно за другим. Загорелись все. Стемнело.
Упала роса и запуталась в его космах.
Пришел ветер – поцеловал его в губы.
Пришла вода – ступни омыть ему, как старая
Эвриклея,
но не узнала шрама и поспешила дальше –
журчать по склону,
вниз, как свойственно всякой воде, стекая.
«Навстречу бою»
Ты не царь.
Твоя Итака – не мрамор и не солнце.
Ты не царь.
И за тобою Гомер не ходит по пятам
днем и ночью
по дороге длинной.
У тебя нет моря.
Ни соли ветра, ни парусов тугих.
Ты не царь.
Ты не плаваешь под молодым месяцем
среди своих островов...
И хватит времени,
и неба отпущено вдоволь.
Ты не царь.
От берега зимних слез ты не отчалишь
и не достигнешь бéрега плодов.
Ты не царь.
Нет моря у тебя.
Для грозных подвигов и для чудес нет корабля
И никогда тебе не знать триумфа.
Ты не царь.
Сидишь на камне. Тишина.
И горизонты – в сжатых кулаках.
Вот возвращаются мои Самсоны. Ворота Газы
на могучих их плечах.
Они минуют, улыбаясь про себя, дремлющий
караул у ограды.
Прян ветер. Вечер. Стрекочут цикады.
Вот возвращаются мои Самсоны. Их Далилы
валяются в ногах у силачей.
Идут Самсоны по моей аллее.
Бессонница. Считаю их шаги.
Вот возвращаются мои Самсоны,
чьи руки пахнут львиной кровью, чей
пружинист легкий шаг. Идут босые
по улице моей. Ни голоса. Ни зги.
Вот возвращаются мои Самсоны. В раковинах
Слуха
их – квакает Сорек – лягушачий ручей.
Идут, беспечные. А я когда в последний раз
носил ворота?
Когда? Да и зачем?.. Наверно, до войны.
Вот возвращаются мои Самсоны. И привкус
трапезы у них во рту.
Пир кончен, сыромятные тетивы разорваны.
Разгаданы загадки,
мне стоившие первой седины.
Вот возвращаются мои Самсоны – их очей
не пробивали гвозди.
А пожарище над Гатом
отполыхало. Возвращаются Самсоны,
мои Самсоны – навестить меня.
Вот возвращаются мои Самсоны –
в литую темноту своих ночей,
пронизанную лисами огня.
Девять из десяти, которых бросят в сухой
колодец, –
их не найти.
Их не продадут караванщикам племени Измаила.
Нет, они остаются в колодце – девять из
десяти...
Или – лезут вверх!.. Лезут вверх! Из сухой
могилы
лезут во тьме, чтобы глотать песок, чтобы
застыть снаружи,
когда заря их обнаружит – среди пустыни,
возле сухих колодцев...
Нет, они не вступают в Египет, в дремотную
дельту,
в Египет плодородия и истомы, чтобы
с лукавой улыбкой морочить головы
царедворцам
загадкой своей особы.
Они не прохаживаются тишком среди пурпура
и порфира
в храмовых колоннадах. И до утра
не прислушиваются к каблучкам жены Потифара
по плиткам двора.
Они не пользуются помощью и поддержкой
Господа Бога,
с легкостью небывалой толкуя царские сны,
чтобы стать правой рукой царя
по ведомству зернохранилищ и арсенала.
Нет, девять из десяти
останутся в яме колодца,
в пустыне песка и неба.
Или – каждый из них найдет по своей войне,
чтобы вкусить злодеяний горького хлеба,
чтобы встретить каждому по жене – и не
запомнить имен этих женщин...
Чтобы вернуться к Иакову, ждущему их даже
во сне.
Вечер идет к тьме. Змейки зажигающихся огней
перебегают быстрее.
И башенный город на берегу озера – как
в старинной раме.
Занимательная – уводит в себя – картинка,
все дальше уводит отсюда:
от жизни и памяти, ран, от страны грустных
моих евреев.
Вечер сгущается на стоячей озерной –
ни капли в ней крови – водой.
Точеные шведки проносят свою сине-желтую
сиюминутную жизнь,
гарцуя к сиреневому горизонту;
сгущается темнота и ночная прохлада;
и запах озона,
и запах спирта, и запах копченой трески возле
пушки
(когда-то она, еще молодой –
швыряла ядра на польские бастионы).
Тонкие шведки тонки, как намек, как обещанье
тумана,
впрочем, оптом включающее в тариф,
башни, лес за озером, повечерья покой...
О, неужели
бывали мы в этих местах? Гуляли в лесу?..
И как там теперь без нас?
Куда бежит вся эта потная орава
со здоровенным парнем во главе?
С чего ряды стремительно редеют?
Покуда «Берта» не в твоих руках.
Горят, как спички, наши бронетранспортеры,
покуда «Браха» не в твоих руках.
А эти двое с чего раскачиваются, как на
молитве,
и на колени падают?.. С чего,
как заведенные, все остальные психи лезут
к доту –
самоубийцы! «Белла» им нужна?
И почему у этих психов имена, чтó – вместо них
вернутся в штаб погибших списки?
А остальные евреи где?
Покуда «Береника» не в их руках?
Чего они глаза мозолят, не прячутся за дымовой
завесой?
Покуда «Барбара» не в их руках?
Перебегают от побед к победам,
от войн к войне почти без передышки,
неотразимы, одиноки... «Бат-Шева» не в их
руках?
По рации: «Конец. Конец приема»... И Бат-Шеве
не воскресить поклонников своих.
Горелые стволы, окал камней и пламя
тем, кто прошли проклятыми полями.
Кто скажет: «Цикламен»?
Я вызываю «Цикламен»!
Я повторяю: «Медь» в квадрат двенадцать!»
Немного – пять... ну, три минуты «меди»
в квадрат двенадцать... по дороге к «Габриэле»!
...туда, где догорает «Габриэла».
Кто ляжет и заснет в дороге к «Габриэле»?
Кто будет двигаться по гребню силуэтом?
Неуязвимый, словно ангел,
как ангел, продолжающий подъем, и только
просящий «золота» – прикрытья до вершины.
Еще немного и вдали отсюда
зарыдают.
«Видения Гиезия»
Солнце садится.
Смеркается, холодно, промозгло.
Скоро начнет накрапывать дождь
поверх серого ветра, раскачивающего кусты.
Я видел: коршун чертит круги в вышине.
Я видел: подолгу советуясь с небом, коршун
висел,
как в том безумно-прекрасном классическом
стихотворении...
А небо затягивается совсем.
Я видел вековой кипарис, раздумавший засыхать.
Я видел башню в старых рубцах,
посвященную чужим богам и взывающую к ним
до сих пор.
Я видел горы. Я видел вершины гор.
Есть у меня родственники.
Сердца их из угля, зубы из серебра.
Закутаны они плотно в пальто,
курят контрабандный табак.
Незваные гости в городе снега.
Дальние родственники.
Челюсти из платины,
огненные ноги, руки водяные.
Смотрят на меня долгими часами –
глазами цианистого калия.
Благородные родственники.
Память о них сотрясает меня.
И я вспоминаю Книгу, где
плачет царь, повернувшись к стене,
далекий, древний... И видно лишь его спину –
до самой темноты.
Пожалуйста, простите меня, когда
не сняв армейских ботинок, во всю
длину вы вытянетесь на этих песках.
Простите меня и мне.
Воздайте прощение мне тишиной,
братья мои во тьме.
Один я стою во весь рост над вами,
братья мои. Все видней
мне ваши лица сверху, когда мы
сближаемся в густеющей тишине.
И со мной, и при мне – единственно – душа
моя,
все, что досталось мне и осталось мне.
Пожалуйста, простите меня,
когда прервется шаг высоких ботинок ваших
на этих песках,
братья мои во тьме.
Так я заклинал, я просил у неба,
я восходил по ступеням молитвы своей
и стоял в вышине.
Но я не Элиша, нет слов у меня,
и слова неизвестны мне об этих песках –
слова неизвестны мне...
Вот я стою под западным ветром с собою
наедине,
под небом юга, равнодушным ко всем с вышины,
в этой – кричащей к небу
со смятенной душой – стране.
Стою над вами. Вижу вас сверху. До темноты,
пока не велят мне с вами идти на запад,
где тени ночи уже густы.
Я тянусь к вам. Ладонь отдерну,
но тянутся руки мои.
Братья мои во тьме!
Братья мои!
«Страницы из цикла “Орел”»
Мы продолжали двигаться в песках,
в пустом пространстве и огромном.
Противник глубоко прорвался. Марево в полнеба
стояло над колоннами его.
Замолкли пушки. Не раскаялись – устали.
Пески, пески... По ветру и по небу
мы понимали: осень. Небосклон,
когда стемнело, расцветился, как салютом...
Кто-то, неладное почуяв,
дал знак стрелять...
Сгорающими – в тьму ночей – смотрели мы
глазами
и продолжали двигаться уже
поверхностью иной земли.
И звезды были сини.
А цель была под странным кодовым
названьем –
имя какой-то девушки. И, судя
по имени, прекрасной. И далекой,
и не подозревавшей ни о чем.
Все меньше становилось нас, все меньше.
Забыли мы, какой сегодня день.
Один вдруг вспомнил – у него с собой конфеты...
Мы повернули западней... Потом,
со вкусом пирровой победы,
пошли южней...
...ней...
...ей...
Всем –
имена, но имени нет вам,
прошедшим через тьму и пурпур.
Тем, чьи сердца не расползлись по швам,
кто видел тот закат, сгоревший в час,
кто убивал, но не убит пока что.
Кто нес молчание, судорожно сжавшись,
кто произнес слова железа тяжелей
или одно – но золотое слово.
Кто весь дрожал. Кто лез с вопросом к нам.
Кто видел все, но быть поклялся нем.
Кто понял все, но плакать не умел.
Кто дальше шел, сказав «конец приема...» –
и щелчок.
Кто всех считал, но не закончил счета.
«Элулские тетради»
Мы лицезрели тебя,
стоящего во весь рост в боевой колеснице.
Тогда стоял ты
(как ты хотел и как ты просил),
стоял ты против народа Арама.
Ты оставался с нами ради
поднятия боевого духа в сражении
при высотах Гилада.
Устали мы сильно тогда, но верили:
ты продолжаешь быть с нами,
ты – наш предводитель.
Издали ты был как живой.
Допустим, великим праведником ты не был
и сделал много «неугодного пред очами
Господа», но,
в общем, ты был не из худших царей.
Прискорбно, что не сам ты, а те, кто достойней
тебя,
о тебе оставили запись.
А это – свято. И это уже навсегда. Пропащее
дело –
никаких апелляций.
И как ни «трудно быть мэром Иерусалима»,
несравненно труднее
быть государем Шомрона.
Особенно в те времена, когда делятся все
на праведников и злодеев.
А когда ты взял из Сидона
(по политическим, ясное дело, соображениям)
дочь Этбаала, красивую и жестокую стерву,
то окончательно спутал дела в Шомроне,
поскольку с приданым твоей дражайшей супруги
в ход пошли привозные
(в придачу к местным, которых и так хватало),
в ход пошли привозные баалы, иноземные,
совсем уж мерзкие боги.
Понятно, тебе это было поставлено в счет...
Но твои покаяния обошлись нам дороже твоих
прегрешений:
ночь за ночью
ты слонялся один. И в ответ на твои вздохи
раскаянья –
молчание.
И оно, молчание, нам слышалось вздохом.
В конце безмолвия – вздох.
Опять же – пророк Илия. Тебе с ним не
повезло –
он был твоей неотступною тенью.
Но не было Илии с тобою в сражении при
Каркаре
(о нем, между прочим, жестоком сраженьи, –
ни строки, ни полстрочки во всех Книгах Царств;
очевидно,
потому, что ты победил при Каркаре).
Информацию о кампании мы черпаем из
ассирийских архивов...
Похоже, ты при Каркаре
оказался совсем недурным воякой. Иначе фигура
умолчания в Книге попросту необъяснима.
Но на кой ты отстроил Иерихон (трудами Ахиэля
из Бет-Эля)?
С чего вдруг? Иерихон! Ни больше, ни меньше...
Почему не вспомнил седого проклятия? Память
отшибло?
А теперь, как в дурной бесконечности, снова
и снова
перед нами встают из-под глинобитных
фундаментов
лица Сегуба и Авирама!
А войны меж тем тянулись. Страшные войны и
страшные годы.
Длились и для героев тоже.
И при всякой из них ты не уклонялся,
а воевал –
не только на пересеченной местности, но и
на равнинах.
И Бен-Хадад был научен тобою тому, что наш
Господь –
Бог не только горы, но и равнины тоже.
Да! Ты завоевал сердце базаров Дамаска,
не последней, надо сказать, столицы,
но – не искупил... Тем не менее – не искупил.
Хотя била во искупление смерти Навота
кровь из пробитой твоей аорты – как
предсказал Илия.
Кровь Навота из щелей доспехов твоих лилась,
когда ты притворялся живым – и живым
казался,
особенно при последних лучах угасающей
и угасшей
вечерней зари на высотах Гилада.
О, Ахав! Мой мертвый царь.
Царь не убил Агага. Пожалел?
(«Тень смерти отошла», – подумал
обреченный.)
Великодушие? Куда там! Отупение от крови...
А ведь какой силач! Но сильным людям
в чем-то
порою свойственно великодушие на час.
К несчастию, царь не учел
закона человеческой природы:
«Те, кто не с нами (на все сто), те против нас».
А политический просчет такого рода –
есть веский повод потерять корону
(тогда, да и сейчас).
Пришлось пророку самому мараться.
Он выдернул меч у царя и –
«С нами Бог» – с плеча!
(А с ним всегда был Бог.) Пророк ушел,
оставив царское раскаянье валяться рядом
с обрывком своего плаща...
Шли беды по пятам. Царь – первым, вероятно,
из венценосцев в полной мере понял,
что значит одиночество на троне.
Он, запретивший ведовство,
он – докатился.
«Еще хочу ее»
Пускай на этот раз не обо мне здесь речь.
Чего там! И игра не стоит свеч.
Кто может добровольно расколоться,
признаться в том, что плачет в нем, – не даст
улик
во имя собственной персоны благородства...
Я слышал мнение отнюдь не дурака:
«Взгляни на малых сих – утешишься слегка!»
Писать о памяти? Чтобы в последних
откровеньях
Мелодия души была обнажена?
Но стоишь, как лагерь собственного ополченья
на собственных границах и рассылаешь патрули.
Один... два... три... – обратный счет. Вот так
клочки надежд и ожиданий
жгут, словно письма перед боем, когда победа
не предрешена...
Один, без ангела – но кто не одинок?
А в лучшем случае (и шанс один на сто)
надеяться на то,
что ты жену или тебя – жена сумеет оградить –
согласно пакту о совместной обороне –
от надвигающейся темноты.
Еще не сказано.
И сказано не будет.
Завязано.
Устал ты, хватит. Тихо.
Ушли.
«Не помню», – ты сказал.
Дозволено тебе.
Душа – не кладовая.
Время – прошедшее
за давностию лет.
Что было, то прошло –
так отдыхай. Конец.
Пал от усталости.
Снаружи – дождь и ветер.
Тебе дозволено.
И горе – не беда.
Мы сдюжим без тебя,
ты все равно уже –
музейное добро...
Не беспокойся,
если что случится,
я разбужу тебя,
И ты не опоздаешь,
не дай тебе...
А я с тобой.
Я твой телохранитель,
твоя «горилла»...
И – спокойной ночи.
И ночь тебе пусть принесет покой.
Hotel de Madrid
...Не ищите меня!
Моя кровь все еще в ночи лабиринтах мечется!
Сердце – соло (тамтам тоски, партия для
ударных) рокочет и –
красная, м-да!.. – в цветочек кровать,
удваивающая одиночество.
Преступление – лежать на ней одному.
Но ни ангела, ни серафима, ни посыльного.
Ни к телефону: «Вас, господин Гури...»
А там, скажем, дама, которая, скажем, красива,
которой больно и горько в полночь, когда меня
нет, скажем, подле...
Но – поздно!
Все. Абзац! Делать нечего. Пять сигарет
«Житан» –
на «до» и «после».
И виски, подлое, кончилось (или – «подлый»?).
Все! Все закрыто. Дождь. И ветер. И лужи по...
м-да!
Недостает черной птички Эдгара Аллана По.
И –
чтобы долбанула клювом в окно! И тогда уж –
полный...
Ну, конечно:
давняя склонность моя к преувеличениям.
Поздно. Позднее позднего.
Скрипит паркет. Журналы, проспектики:
юная Жанна Моро во «Влюбленных». В общем,
на западном фронте моем без перемен
сегодняшней ночью –
ни то ни се, сальто в воздухе,
сотрясение воздуха,
кувырки.
Дуэт в соседнем номере навзрыд рыдает,
так и скончаешься скрипам в такт,
как в пресловутых подвалах, к слову сказать,
инквизиции,
как раз к двенадцати баллам этой импровизации
по шкале Рихтера (для этой пары счастливцев
там).
в альманахе «Послание»
Кончились наши денечки. Ханá.
О, небо! Пришла пора покаяний!
Другое начальство поднимет счета
наших благодеяний и злодеяний –
а наши кончились времена.
Вся наша жизнь – в провал утекла
меж неисполнений и обещаний.
Бренди местного производства закажем в стакане
чайном
и – за воскресенье души печальной
(лживой стервы на пенсии, поддающей
отчаянно) –
разом проклятую влагу – до дна!
Хоть за то, что мы дожили-выжили-прожили,
вместо нас – пуля лучших нашла не случайно,
уж своих адресатов знает она.
То, что должно сказать, не мы прокричали.
А что должно забыть – назовут имена
наши. На вечные времена.
Так – в провал меж улыбочками умолчанья
и преждевременными смертями
наша жизнь утекла. Ханá.
Угорали от истин, от табачного дыма и чада,
справедливость и курево смешивая, и часто
повторяя «дай Бог, не последняя» – и до дна
(исключительно за воскресенье души печальной),
мы детей своим видом пугали отчаянно.
Все мы были товарищами. Ханá.
Может быть, сбудется. Ждите. Это – безмолвие
пред...
Успокойтесь. Вас не забыли. Сами
покуда не знаете, что ждет вас
на пространствах невнятных предчувствий.
Идите к прокаженным, очищенным от проказы,
к слепым, прозревшим вновь,
к красоткам, думавшим, что они дурнушки,
к ним, отчаявшимся, идите
в их пустые постели.
Вот ведь – и сын сунамитянки проснулся от
смерти,
вот ведь – ит еща Петра, заходящаяся
в горячке,
встала принять гостей
от двух-трех слов и прикосновенья руки Христа.
Те, прежние, кончаются времена.
Ветер свивается, возвращается ветер на круги
своя,
и тебе осталось узнать,
что ты ждала не напрасно.
Что же будет, если вдруг голоса не дойдут?
Пропадут бесследно?
Если ушедшие не вернутся, что будет?
Осталось времени мало. Но пока неведом
знающий твердо,
что будет.
Следы на золотом песке дюн тянутся к западу и
смываются, как пустые ракушки, водой соленой.
Дальше – не вижу.
Падающая звезда! Раненый ангел наш, ходатай
перед судом небесным!
Вслед огненной его колеснице загадай желанье,
попроси,
пока не поздно, пошли желанье во тьму,
за пурпурным шлейфом.
Впрочем, звезды меня обманули с не меньшим
блеском,
чем самого Хаима Нахмана Бялика в свое
время...
С тем и получи, что заслужил, – утешительный
приз предрассветный:
даже «Аман» (разведуправление) не застраховано
от ошибок.
Но все же – что будет, если она прождет его
весь день
в условленном месте, а он не придет?
Что будет, если она прождет его ночь напролет
до предрассветного ветра – а он не вернется?
Станет Он нас вызывать поименно – подряд
и по списку.
Нас, скандалистов, привлекших Его внимание,
нас – не таких,
как другие.
И не останется нам городов-убежищ на
разрушающемся горизонте.
И под свист этого серого ветра нам, как спьяну,
до смешного станет вдруг ясно:
то, что Он взял у нас, при ином раскладе
было бы наше. А почему бы и нет?
Господи, как я устал. От серятины, серой тоски
безразличья.
Дошел, как на отвальной, на прощальной любой
вечеринке
(то есть – излиянья, поддача, слезы).
А я до сих пор не Его, я другой, продолжение
прежнего крика,
которым и раньше кричал. Хорошо. Отхожу от
окна –
полномочный посланник праздничной ночи
с правом валять дурака: анекдотики, слайды,
остроты...
Пока не скомандуют: сдать обмундированье,
сапоги, автомат. Ведь мы не предполагали,
что нас отзовут поименно.
Что со мной? Что опять будоражит меня?
Ненависть просто так не перегорает – будьте
спокойны!
Кто-нибудь да поддержит огонь.
Что же с того, что я устал и похож
на гладиатора-орденоносца в отставке?
Это ведь зарево? Это ведь запах огня?..
Очередное жертвоприношение у подножия
божества.
Однако, скажу я вам, красота!
Скажу я вам, сладко этот дух обонять!
И себя чувствую, точно
очнулся от долгой болезни –
так долго отсутствовал здесь.
Что там? Кто был? Кто ушел? Что осталось?
Хрипло тяну привычное «почему?»,
разгоняя клубы серного дыма.
Ведь о чем-то подобном спрашивали меня самого
на соленом щебне Содома, разрушенного
буквально у нас на глазах,
с тем же идиотским недоуменьем во взгляде:
«Мы не хотели, мы совсем не это имели в виду».
Отвечаю: «Бывает. Что делать? Бывает».
Дальше традиционно – пурпур и мрак (как
в старом фильме),
туча жгучего пепла, свет заслоняя, выпадает
на трупы
на склонах капищ твоих, бог войны.
А с высоты, с поднебесья глядят укоризненно
обугленные горизонты,
и этот ритм, дремавший во мне годы и годы,
отзывается памятью преступлений.
«Записки из винного погребка»
Ты дашь широкой медленной воды речной
простор,
я дам тебе камней – на гряды хватит гор.
Ты дашь мне сень дубрав таинственных, густых,
я дам полдневный зной, дремоту Мест Святых.
Ты дашь прокисший день в заштатном городке.
Я – полчаса ЧП – со взрывом и т.п.
Ты – географию: от сих морей до сих,
а я – историю страны: на психе – псих!
Ты мне – газончик, чтоб футбольный мяч летал,
а я в соседи дам тебе магометан.
Ты – правило: «Не вздумай рыбу есть ножом»,
я – госдолжок и хоровой кружок.
Ты дашь мне барышню, не поднимающую взор,
я дам десантницу, идущую в дозор.
Ей-Богу, выгодно! И вам – и нам.
Я беспокойство дам тебе по временам,
дам: «До утра не думай ни о чем» –
в обмен на легкий сплин и долларовый счет.
Я уже не тот, прежний. Не тот.
Я – следующий за ним,
я – сменившаяся гримаса того же лица.
Оторвавшись, иду без него, предыдущего.
Иногда бегаю ночью –
в надежде побить свой олимпийский рекорд.
Учусь уступать... Довольствуюсь грамотой
«за участие»,
получаю утешительный приз,
от добра добра не ищут, главное – лишь бы
не было хуже.
Судя по ивритской и иностранной литературе,
в свой срок раскрываются врата мудрости,
и гармония
(некая неброская, тихая красота) дарит
фортепьянно-сумеречное
предзакатное умиротворение –
этакие слегка припоздавшие репарации.
Мой хриплый, дымный смешок...
Каждый день я дохожу себе, как вода, –
вот так –
до горла.
Смотрю в окно: тот еще говорит, а этот уже
идет...
Жаль, что у меня отсутствуют навыки
правильного дыхания.
Все еще иные слова гуляют в старой моей крови,
траченной старой моей любовью.
Жду новых врагов,
сохраняю приобрести их надежду,
пока еще можно издали различить
завихрения воздуха вокруг меня.
напечатанных в альманахе «Геликон»
Ты вроде бы здесь, а уже одной ногою там.
Ходишь около, высылаешь агентов подрывать
устои Земли Обетованной...
Они возвращаются, значительно ухмыляясь,
таща за собой погребальные носилки умолчаний,
волоча камни.
Так! Ты украл год-другой. Так молчи. Так
держись.
Дуй по прежнему курсу.
Только не смей отдыхать – никаких привалов.
Все теперь уже – за твой счет.
Ты немного устал, утомленный серый гладиатор
из тех, кто выжил,
сохранивший в награду свои зубы и ногти,
как квитанцию за подписью тех зверюг,
что недотерзали тебя.
Как ни странно, ты не отстал на одной из
узловых пересадок.
Здесь у нас тот, кто зажился, подозрителен
на предмет
«не был личным примером» или в том, что
сорвал жирный куш
в азартной игре вроде «русской рулетки»...
Кого-то из наших ребят встретили на пути
всяческие хворобы,
утянувшие их в затененные спальни,
кто-то набрел на рой пуль в самый разгар
роенья.
А кое-кто вроде тебя – жив. Подозрительно
выжил.
Так молчи. Дуй по маршруту. Следуй по курсу.
В темных туннелях тела течет твоя нелегкая
кровь,
отягощенная условным приговором суда
твоей истории.
А снаружи, со стороны закатного багрового
горизонта,
возвращаются к тебе лица и лица –
с выражением вроде
«где ты, собственно, был, когда я...» Ну и т.д.
Что же ты им ответишь в День твой?
Так иди исправлять ошибки,
не соблюдая единства места и действия,
иди собирать объедки и пустые бутылки с пира,
на котором не был. Не пригласили.
Садись на одну из вечерних скамеек –
со всем возможным к себе состраданьем,
как отличительный знак – твой взгляд
отрешенный.
Трубка. Задумчивость. Некоторое величье.
Желательно, чтобы ты снова поблагодарил
супругу.
Ты заслужил. Ты заработал. Ты умудрен. Ты
человек со стажем,
что, собственно, меня и не удивляет.
Новости
На сайте опубликовано мемуарное эссе В. Тарасова «Ступенчатый Свет», посвященное А. Волохонскому, М. Генделеву, альманахам «Саламандра», творчеству автора и многому другому.
