

ЗАПИСКИ ИЗ МАНСАРДЫ
РОВНО: ГЕНДЕЛЕВ
Когда мне предложили колонку – все, что еще есть, то есть еще осталось человеческого во мне, надулось, напыжилось, выпятило грудь и надменно глянуло поверх моря голов... Всего-то человеческого нашлось во мне, чтоб встрепенуться душе на блистательный перечень живых современнико-гигантов, к концу жизненного пути удостоенных колонок. Значит, так: М. Горбачев в какой-то итальянской «Ла...», Н. Щаранский в «Джерузалем рипорт», Э. Кузнецов во «Времени». И мы – в приложении. Очень мило.
Наоборот – все нечеловеческое во мне – т.е. все, что еще осталось от поэта, перевалившего и 26, и 37, и 40, пережившего такие хорошие возрасты для расстрела, а также свои желания и мечты, замученного бескормицей, бесплатной славой и русскоязычием, – неестественное естество мое возмутилось несказанно. И вспомнило естество наших покойных предшественников, колонов и рабов несжатых газетных полос: Киплинга и Розанова, Честертона и Хемингуэя, Чехова и Довлатова. И подумало естество. О тысяче четырехстах словах в номер – подумало. И пригорюнилось: что это – с одной стороны – деньги, а с другой стороны – слова. Вот Экклезиаст, например, не писал в приложении, и Иса из Нацрата не писал. И никаких слов в неделю абсолютно не писал граф Толстой. Граф обожал пахать, но не за такие деньги.
И опять же: хоть и небольшие, но деньги. Сначала слова, шекели – потом. Сначала золотые слова, сикли серебра – потом. Утром слова, вечером – сикли. А скорее всего, утром и вечером слова, а когда-нибудь – не близким майским вечером – сикли. По птору от мас-ахнасы.
В принципе я шекели видел. Очень красивая печать, такие они – разноцветные. Крайне редки. Наверное, раритеты они потому, что их печатают за границей, кажется, в Голландии. Там они, вероятно, и расходятся прямо на месте публикации – за рубежом. Сюда, по крайней мере – ко мне, они за отдаленностью не поступают. Достать у моих знакомых подлинник практически невозможно. Недавно показали десять шекелей. Филигранная работа. Не описать...
Я лично знаю господина, у которого есть тридцать новых шкалей. Правда, в минусе. Где-то он их раздобыл. Очень приличный, начитанный господин. Моет трупы в хеврат кадише. Знает матерьял. Цитирует. Меня, например, читал. Бонвиван. Из Кирии. Критикует Чистый Разум. Но я отвлекся.
Отвлекся я от размышлений, потому что в дверь постучали. Терпеть не могу, когда в дверь резко стучат. Вздрагиваю: «Это за мной!» Но отстучали – «не за мной», я его не интересовал, его интересовал ток электрический, он и алкал его отключить. Скромный чиновник в кипе. Звать Гиора. Мокрый, несмотря на сухую вокруг погоду, – подняться в наши с ним лета ко мне в мансарду – не шутка – четырнадцать пролетов, семь этажей, о лифте не может быть и речи. (Вниз значительно легче. От искушения этой легкости необычайной – в пролет не заглядываю.)
Пришел Гиора, а я доверяю его словам, отключить мне Свет. Я ему говорю: Я, мол, писатель, свет мне отключить нельзя; Свет, мол, и Стило – орудия моего труда, я не могу без Света, ибо альтернатива ему – Бессветица, т.е. – Тьма. Долго так ною, на местном диалекте древнееврейского, на одной интонации: что никак нельзя без Света, пусть даже искусственного, писателю, что я без этого Направленного Пучка Фотонов в упор не вижу реалий мира, что если ему так уж не терпится отключить за неуплату, пусть отключит газ, все равно готовить пищу телесную не из чего, что в темноте мне придется архаично щипать лучину и отдавать креационному акту при отсветах пламени собственных рукописей, а они не горят, потому что отсырели, – так вот, писать при пламени прошлого – суть декаданс, дешевое эстетство и портит стиль.
А он мне в терцию, категорически: во-первых, газ – это не он должен отключать за неуплату, а другой, несмежный ему специалист. (Но плиту, к которой я его подвел познакомиться, рассматривал Гиора с интересом не любительским. Еще бы! Чай, антиквариат плита – турецкая ручная работа, античнее мандата, ее еще турки выбросили). Во-вторых, писать можно днем, при ярком дневном естественном свете божьем. И в-третьих: «За свет надо платить».
Почуявши слабинку, пустился я во все тяжкие и возразил.
По первому пункту: газ он вполне может мне отключить, потому что «то, что не по специальности», – это отговорки. Я вон по специальности врач, меня этому семь лет учили, а тружусь я, лет двадцать как, – по Департаменту Изящной Словесности, чему меня уж точно никто не учил, а наоборот, даже отговаривали. И что? И – ничего. Во сколь книг откатал! И вообще – нечего специальностью бряцать. На Ближнем Востоке у нас так принято: по специальности работают только дилетанты. Боевик – главой правительства, дантист возглавляет делегацию палестинцев, зэк – главным редактором, репатриант молочно-восковой спелости – лидером политического движения. Так что он, Гиора, смело может отключить газ. Мне.
И по второму пункту я опроверг: нет! Я не могу писать днем. Днем я причащаюсь к архисовременной музыкальной культуре нашей страны. Живу я на мидрехов в самом центре Иерусалима. Уже десять лет как квартирую, и уже три года как – утром в мансарде моей – утро начинается с рассвета. Просыпаюсь я под могучие всхлипы духовых. Это по всей улице Бен-Иегуда сводные оркестры алии дают ностальгию. На промысел выходят небритые дяди еще затемно, утро, мол, туманное, утро седое. Потом марш буденовцев-нахимовцев-энтузиастов, потом, не отвлекаясь на обед, ресторанная лампада и ария Чебурашки, вечером – «Взвейтесь кострами...» и обязательное «Прощание славянки», «Гори, гори, моя звезда» и «Темная ночь» додувают, понятно – уже на ощупь.
Давеча датый лабух с люминесцентной надписью на толстовке по-русски и по-английски соответственно: «Ай лав Нью-Йорк» и «Пусть отсохнет моя правая рука, если я, забуду тебя, о, Иерусалим!» – «Реве та стогнэ...» доигрывал в половине второго. Я подкрался и вкрадчиво так процитировал: «Не дудел бы в трубу, молодой человек / Полежал бы ты в гробу, молодой человек!» (О, Мандельштам!).
Не оттого ли я так теперь не люблю, когда стучат в дверь... А при свете дня писать решительно не могу. Все катается на мотив «Синий платочек». И филиппики, за кои заслуженно несу титул года «Враг алии номер один. И абсорбции». И переводы стихов Борхеса и Шломо Ибн-Габироля. Что б ни писал, от некролога до одической поэмы, – он же. С опущенных плеч. Положительно не могу творить при беспощадном, все высвечивающем свете дня!
Пункт третий: «За свет надо платить».
Платить надо. Этому меня научили свинцовые мерзости жизни. Когда-то, десятилетие тому как, от большой нужды взял я банковскую ссуду в полторы тысячи долларов. Некоторое время я ее, ссуду эту, не повыплачивал. Через четыре года банк по суду взыскал с моих гарантов шесть тысяч тех же пресловутых долларов и вломил мне дополнительный иск еще на двадцать одну тысячу долларов США. Именно наличием этого долга или, точнее, отсутствием этой суммы после десятка лет со дня опрометчивого поведения по взятию ссуды и объясняется готовность пойти на отключения необязательного синего пламени в доме моем, о мой друг Гиора! О мой друг из хеврат хашмаль! О!
Но ведь плачу же я за Свет! Книги вот пишу про вечное и возвышенное «на русском языке последнем мне». Стихотворения сочиняю... Плачу. За небо плачу. За свет. И за воздух горнего Иерусалима плачу.
...Да ладно, чего там!.. Буквально сейчас, я буквально возьму себя в руки. Нет-нет, я совершенно спокоен. Ничего-ничего, сейчас все будет в порядке. Беседер, говорю. Гамур.
Ну вот: а вы говорите – свет-свет...
Одним словом, не отключил мне добрый Гиора свет. Так и живу при свете. Пишу еженедельную колонку. И синее пламя полыхает в моем жилище.
ХОЛОДНАЯ ЖАБА НА ЖИВОТ
Как поступал порядочный молодой человек из хорошей семьи, с высшим естественно-научным образованием и бакенбардами среднего класса, в плохую погоду декабря 1892 года в городе соответственно Самаре, если он последовательно, но практически единовременно обнаруживал в наличии: измену супружескому долгу жены своей – драгоценнейшей Ульяны Сигизмундовны, урожденной Жлобейко-Клотц, казенную недостачу в возглавляемом им присутствии, что угрожало полицейским преследованием, а к тому же старшенький его – Гоша – попался на подделке папиных векселей, приобретении дурной болезни и распространении подметных плехановских прокламаций, а младшенький – какой год во втором классе реального с колами борется, а к тому на скачках Милорд засек Изольду, а Витязь пришел третьим, а любовница и друг сердца Елена Сергеевна не вернулась с кафешантанных гастролей в город Бобруйск, и сердце покалывает...
Пред нашим данным молодым человеком из хорошей семьи и т.д. открывается широкий веер возможностей: загудеть с телками и поддачей (читай: «закатиться к цыганам»), уйти в глубокий запой (читай: «уйти в глубокий запой»), уйти в монастырь (убежать джоггингом в группу здоровья), отъехать в вояж на казенный счет в Париж (свалить за бугор)... Наконец, как всякий порядочный человек, он может застрелиться... Ох, застрелиться в декабре 1892 года в городе Самаре в отменно плохую погоду!..
Сегодня, в 1992 году, в декабре (читай: месяц кислев), несмотря на мерзкий субтропический ливень в городе Холоне, катит он к гадалке-экстрасенсу. Из Холона – в Яффу.
Не на исповедь, не к психоаналитику, не к психиатру, что не одно и то же. Он/она (компьютерщик, биохимик, продавщица, окончившая ЛГУ) в трезвом уме и твердой памяти добровольно подвергается воздействию: Наложения Рук, Биополя, Красного Свечения, Открытия Чакр, Выявления Точки «Чи», Нахождения Точки «Джи», Сыроедения Всякой Гадости, Уложения Холодной Жабы на Живот и наоборот – живота волшебницы обоего пола и вероисповедания на лысину, Уринотерапии (это еще в легком случае!); подвергается приложению к себе и на себя: Вудизма, Ведизма, Суфизма, Оккультизма, Антропософии, Теософии, Некромантии, Столоверчения, Графологии, Пришельцев с НЛО, Астрологии, Таинств Серого Булыжника Кхемы, Шияцы, Даяцы, Философии Дао и Дэ, групповухи Трясунов 27 округа, Сатанизму, Теизму, Демонизму, вниманию Общества Любителей Джуны, Кружка Созерцателей Пупка Великого Мумрика и Дяди Шмулика, Поедателей прополиса и гуано, практиков Прикладной куда-ни-попадя Каббалы, поклонников психопатки с улицы Газы, Цыганки Азы, Гностиков, Богумилов, Розенкрейцеров, Неомартинистов, Хозяина Магической Излечивающей (если полижет) ранку (или опухоль, или радикулит, или антонов огонь) Собачки Тобика ЛТД с Чистых Прудов, временно находящейся на гастролях в Афуле, etc...
Он вообще стал какой-то не тот, этот наш отдельно взятый молодой человек (эти: компьютерщик, биохимик, продавщица, окончившая ЛГУ). Он как-то сдал в последнее десятилетие... Он и раньше особым умом не блистал и с легкостью давал себя: облапошить, шантажировать, проводить на мякине (нужное подчеркнуть). А тут совсем стал, как говаривала одна интеллигентная старушка из Рамота, «старам и умам плоха»... Совсем обалдел... На всем неделимом пространстве Рассеяния от Привоза до Крайот и от Холона до Гудзона.
Ну хорошо, все давно знают, как уберечься от дурного глаза. Тоже мне бином Ньютона!
Все знают, как хорошо помогает, если приложить к рваной ране свернутую в трубочку молитву «Тфилат-ха-дерех» при роад эксидент, не говоря уж, если над бумажкой пошептал сам Баба Сали.
Целительные свойства мезузы от ограбления общеизвестны. Но холодная жаба на живот – это слишком. Еще в 15 веке за такую психотерапию сжигали. Это во-первых. А во-вторых, хоть плачь – совершенно не помогало от черной оспы, собачей чумки и гастроэнтероколита...
Короче говоря, пошел я к ведьме. Хваткая, тяжеловатая тетка моих, то есть средних лет, опрятно и недешево упакованная в мешок стиля «кантри» с многочисленными, и тоже не совсем уж чтоб рыночными бранзулетками общим весом в хороших 2 кило. По-вечернему накрашенная. (Дело было к полудню.) Со странным, сразу меня насторожившим – не акцентом даже, а прононсом. Звали ведьму нормально: Лилит.
А началось все с того, что одна сильно неглупая моя приятельница (редкой красоты особа), находясь в тяжелом – в смысле успеха в труде и личной жизни – состоянии томления духа, выпучив прелестные свои глаза до утери ими кукольности и приобретения легкой лягушачести, поведала мне о феноменальной способности Курдской Волшебницы проницать интимное прошлое вышеобозначенной дамы, не менее интимное настоящее и ослепительно интимное будущее. Моя скромная персона, по простым словам ведьминской пациентки и по приведенным цитатам из этого «физиологического очерка» – цитатам, от которых я покраснел, предстала очень выпукло... Тайновидица и Сокрытознатица была природной курдкой, никакой не еврейкой, Посвящение приняла в Египте, совершенствовалась в Индии, практиковала в Танжере, Лиссабоне, Париже, Нью-Йорке и Брюсселе, за сеанс брала 50 шекелей. (И 150 шекелей – за амулет.) Живет в Яффе. (Все со слов знакомой восхищенной дамы.) Остренько посмотрев на меня, волшебница задала первый «естественный» вопрос, откуда я узнал ее телефон, то есть кто был ее рекомендателем...
В принципе, этот вопрос должен был сразу засветить меня. Я был уверен, что допрос моей колдуньей рекомендательницы (сеанс), для человека долженствующего профессионально обладать громадной цепкой памятью и умением вытягивать информацию, – этот допрос моей приятельницы дал чернокнижнице немало полезных сведений. Так что назови я ее имя... (Пациентками ведьмы процентов на 99 становились знакомые знакомых. Позднее я получил подтверждение этому.)
Я довольно неуклюже ушел от ответа, заявив, что предлагаю ясновидице для разминки определить имя самой.
Лилит, обворожительно улыбаясь нехорошими глазами, уклонилась, нырнув под руку, и переменила стойку, выговорив с легкой угрозой, что если я пришел к ней, то «никаких тайн и напряжения» между нами быть не должно и я должен быть «перед ней с открытой душой». Как она сама. (Понимай – душа нараспашку.) Я очень не люблю стоять в дверях с душой нараспашку, как и заглядывать в распахнутые всякие чужие души. Особенно – ведьминские! Поэтому провел серию, нырнул, вошел в клинч, сдал 50 сиклей серебра и, оттолкнувшись от канатов, сел за стол в гостиной перед магическим ш аром и скелетом (по-моему, любимого пуделя бывшего хозяина дома, если, конечно, не предполагать самого худшего). Уже за столом я сообразил, что все равно тяжелый мой русский акцент выдает меня с головой (не так много «русим» навещали эту гостиную в течение последней недели), и, конечно, убедился, что не ошибся... Проведя несколько отвлекающих атак в центре площадки, мадам навязала мне обмен прямыми на средней дистанции, свинганула и танцующе повела меня в угол, рассчитывая явно на нокаутирующий удар слева. Она выпалила мое имя. Почти точно выговорила фамилию, месяц рождения, возраст... Нокаут? Нет, нокдаун. Я встал при счете три и ушел в тихую защиту, мороча противника (изображая почти грогги), а сам быстренько отсекал всю достоверную информацию о себе, какой обладала моя излишне откровенная, «с душой нараспашку», рекомендательница, и вспоминая, что именно я ей в свое время для красоты наврал – то есть какую невольно дезу подсунул. И вспомнил! Вспомнил, что в интимную минуту (точнее, после нее) – черт меня дернул, и я поведал ей, простодушной, что не единственный я сын и ребенок в семье мамы Хаси Шмаевны и папы Самуила Менделевича, а наоборот, я вдохновенно зачем-то придумал себя брата-близнеца Борю (Железную Маску), живописно приписав ему весь набор отсутствующих у меня добродетелей (техническую сметку, практическую жилку, трудовую сноровку и отсюда – аспирантуру, большую еврейскую жену и проживание братика почему-то в городе Саранске...). Тем временем ведьма, предчувствуя чистый выигрыш нокаутом, разливалась о моих интимных привычках (я узнал много нового), мерзких пороках, гадких повадках и прочих ярких чертах моего недюжинного характера. Она уже погадала по колоде Таро (мне очень понравился изображенный там один повешенный с высунутым язы ком), на кофейной гуще (используется кофе с хелем, мускатным орехом, 2 ложки сахара!), по волосам (описывать противно, но заодно мне внечувственно сняли геморроидальную колику и дефекты осанки), рассчитала быстренько гематрию моего имени (у меня тонкий художественный вкус, я застенчив и люблю хорошо одеваться) и перешла к катарсису... – гаданию на бобах!
И тут-то я, в двух придаточных предложениях времени и места, спросил про брата-близнеца Борьку! Боба то есть. И он предстал предо мной как живой. Борька, братец!.. Из маленького провинциального города (название Лилит выговорить все-таки не сумела). Он, Борька – мой близнец, но старше (352 секунды разницы!). Следует возраст и описание приятной, но более усталой внешности. Жена вот его мучит...
Конечно, это был нокаут. Я встал, ошеломленный и раздавленный. Весь пошатываясь. И побрел в распахнутые двери. И вялой рукой (я ничего не соображал...) отклоняя предложенный (и уже связанный Магическим Узлом) Амулет От Всего, Амулет с Сердцем Змеи на веревочке – и всего за 150 шекелей. Я пообещал позвонить обязательно, и вообще звонить, и заходить, и советоваться каждый день ( «о гонораре потом, потом...») Я вышел из гостеприимного домика Колдуньи (посвященной в Египте, стажировавшейся в Пенджабе, практиковавшей в Лиссабоне и живущей в Яффе). В эту самую Яффу. В которой я прожил пару лет. В громадном доме, почти окна в окна с домиком Лилит; и пошел я навестить давешнего приятеля Фреда, жовиального господина, не дурака выпить, старожила Яффы и, между прочим, полицейского.
За дымчатым молочком арака и за кофе с гелем (2 ложки сахара!) я разузнал много любопытного. Зовут Лилит – Шоши. Лет ей 50 (я крякнул). Родом она из Плоешти (вот он, курдский прононс!). Фамилия рифмуется со стамеской в винительном падеже. В Нью-Йорке действительно практиковала, держа педикюрный кабинет, прикрывшийся в связи с паникой по поводу СПИДа. Погорелицей вернулась в Яффу. Преследовалась за уклонение от налогов. Практика законна. Налоги почти платит. Трое детей (все за границей). Друг – лавка серебряных изделий – шук ха-пишпишим (Блошиный рынок)...
В заключение. Желающих составить представление о том, что есть современный оккультизм, отсылаю к замечательной статье Мирче Элиаде – крупнейшего современного религиеведа и историка религии, культуролога, посвященной анализу психологических мотивов нынешней волны интереса к мистике и оккультизму. Статья переведена и напечатана в 83-м (последнем) номере журнала «22».
А со своей стороны не могу не процитировать стихотворение Михаила Генделева:
«Всю ночь, как псих, читал Дао-дэ-цзин.
Открылись чакры. Стыдно выйти в магазин».
ВОТ ПРИДЕТ КОТ
К каждому одинокому и уединенно проживающему мужчине рано или поздно приходит кот. Не кошка, а именно кот, и, как правило, – помоечный. То ли выразить мужскую солидарность, то ли соболезнование, то ли просто ищет общества.
И ко мне в мансарду пришло ритуальное животное. Кот был бит жизнью, явно отсидел и предрассудков лишен начисто. Фрамуг, запертых дверей, щеколд не признавал. Холодильник он открывал запросто, как медвежатник почтовый ящик, – специальным желтым когтем на правой лапе. Холодильник он, вероятно, принимал за чайхану с кондиционером. Так я его и застал in flagranti: дверца настежь, оскал блаженства, в вялой лапе антрекот. Кроме кота и антрекота в холодильнике абсолютный порядок – стерильно. Человек я был не богатый. (И остался им.)

Рис. А. Макаревича
Увидев меня, кошара сделал ноги. Ушел по карнизу на соседнюю крышу, не унижаясь до стрельбы. Назавтра мы встретились с ним в той же позе. Антрекоты кот утилизовал. Я поймал гада и после ожесточенной, с применением ближнего боя махаловки – скрутил. Шипя, как пара змей.
Вися, схваченный и удерживаемый за великоватую ему шкуру загривка – над отверзшейся бездной седьмого этажа, – кот внимательно рассматривал педагогически предложенную мной перспективу его трагического конца, если не прекратит беспредел с фуражом.
На следующий день из холодильника выкатили плавленый сырок – уникальный, т.е. единственный – в центр гостиной выкатили. Так они дорывались, понимаешь, так они мотали мне психику. Так они клали на нас.
Ладненько, подумал я. Человек умней кота. Он больше и старше. Он читал Моммзена и Гиббона, он М.D., он политобозреватель.
У кота, конечно, тоже есть свои достоинства, он, например, чаще разводится, но это еще ни о чем не говорит. Хотя оба самцы.
Так вот, подумал эрудит, M.D. и политобозреватель. Наши дикие предки, общаясь с ихними дикими и саблезубыми, ставили на них капкан, кошеловку. Из педагогических соображений. Чтоб охоту отбило по рефрижераторам шустрить.
Я набрал полное ведро холодной воды и поставил шатко на холодильник. Тронет кто-нибудь посторонний когтем дверцу и... охладит воспаленное антрекотом воображение.
...Вернулся я домой поздно в ту ночь, поздно и тяжело, напевая, что «одной звезды я повторяю имя..». Проснулся затемно. От жажды. Дегидрация. Радикалы Цэ-2-Аш-5-О-Аш связывают воду. Или наоборот. В общем – сухость во рту: Негев, Синай... Хочется чего-то необычного, жидкого, ледяного, оранжевого, кокосового молока, томатного сока, наконец! Воды, кричат, воды! Ну, хорошо – стакан холодненькой водички из бутылки из-под кока-колы с дверцы со скобочкой. Ведро даже не расплескалось. Поначалу, конечно. Длинная, огненная, уплывающая, отплывающая в правый верхний северо-восточный угол сознания – улыбка кота отшвартовалась в темном мраке воздуха ночи. Потом – окатило.
Теперь, безусловно, мораль. Иначе с чего я предался ностальгии о холостяцком быте? К чему эти воспоминания о помоечном корсаре в полосах от абордажных боев, о захватчике антрекотов, о хитроумном минимахайроиде, носящем в замшевом кисете компактные яйца на отлете? К чему? Если никакой морали, окромя о вреде алкогольной эйфории с последующей амнезией?
Но вы уже и сами понимаете, к чему – конечно же, к 10-му туру переговоров. О передаче Палестины палестинцам. На память.
У меня вот сложилось впечатление, что мы кому-то готовили ловушку, но забыли кому. И такое у меня впечатление, что черт с ним – с антрекотом. Это очень больно, когда ведром по чану. Хотя и освежает. И мадам Ханан Ашрауи, улыбка ее – что же это мне мучительно напоминает? Хотя и не носит яйца мадам – в замшевой сумочке на отлете. Хотя и этот факт еще требует подтверждения...
Ах, какие мы эрудиты, какие мы политологи... Мы старше и мудрей. Мы очень мудрые, обитатели мансарды, выше которой только небо. И тогда к нам приходит кот. Самец.
НАХАШ ЦЕФА, ИЛИ
ГАДЫ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
Терра Санкта – серое, монументальное, ностальгических пропорций здание на Французской площади Иерусалима. Принадлежит Католическому колледжу... А внутри европейского вида двора, во флигеле, в тепличных условиях живет Стелла. Со своим Мальчиком. Живут дружно. У них дети.
Стелла – питон (питониха? питонесса? питонша?). Мальчик, соответственно, тоже. В Стелле семь с лишним метров, в мальчике ее – шесть с лишним. Недавно отложила Стелла яйца, числом 42. Хорошие такие яйца... Семь метров живой гадины... На Французской площади... М-да... Против дома премьер-министра Израиля – окна в окна. Булгаковщина, согласитесь...
А анаконду вы когда-нибудь видали? Живьем. Желтую анаконду-удава – так сказать – а ла натюрель? И зеленую анаконду – вообще абсолютного чемпиона мира, в смысле длины? Самая длинная желтая анаконда – из известных – длиной в 11 метров 43 см. Та зеленая, что в Терра Санкта, ее товарка, – мелюзга: метра три – три с половиной, но может вырасти. У нее, как, впрочем, и у Стеллы, все впереди – гиганты живут до 50 лет (это достоверно) и все время растут... Питоны и удавы – существует меж ними какое-то мелкоуловимое специалистами различие, но и те и эти: змеи семейства ложноногих. А живут удавы в основном в Новом Свете, а питоны, соответственно, – в старом – от Бирмы до Индонезии. Так вот, питоны и удавы хоть и видом кошмарны и нравом бывают вздорны, но хоть не ядовиты. Хотя со Стеллой ни один самый Шварценеггер не совладает. Обнимет питонесса – и все! Хруп-хруп косточки... А что сказать о такой Божьей твари, как змея гремучая Каскавелла (так и называемая «страшный гремучник») из Южной Америки? Или 2-метровая Брильянтовотелая из Северной Америки? Тоже гремучник! Или габонская гадюка – 2 метра ростом (8 кг), у которой ядовитые зубы достигают 50 мм. А все семейство аспидов – слово-то какое, – к которому относятся и кобры!.. Но чемпион, живущий на воле и в Израиле: петен шахор – пустынный Черный Аспид, или Вальтернезия египетская! А Цефа Исраэли? А Эфа? А гадюка Хермонская – самая крупная змея нашего региона, которая была поймана на севере страны в 1967 году, прожила в террариуме 25 лет и недавно мирно почила, оплаканная двумя поколениями безутешного персонала? Трепещете? Правильно делаете. То есть – зря. Я тоже трепетал, а теперь – хоть бы что! Потому что - «сон разума порождает чудовищ»! А известное – не пугает. Оно страшит. Это во-первых. А во-вторых, это все до того интересно, что вызывает сухость во рту.
Этот, например, американский щитомордник семейства ямкоголовых – гадина, конечно, вида того еще, а на морде у нее два термолокатора. (Вооружена лучше современного истребителя!) А термолокаторы столь чувствительны, что позволяют реагировать на изменение температуры в 0,003 градуса! А?! И наконец, в-третьих: какой невероятной красоты эти гады, эти ходящие на ребрах своих создания. Как катится змея, как встает кобра! Как льется под кожей мускулатура. А цвета? Кретины-декораторы красят змеиную кожу! Господь, лучший декоратор, позаботился так одеть живую тварь, что снятая с нее кожа – тряпка. А на ней – парча, да атлас, да шелка невероятные, шамаханские. Ядовита? Ну ядовита, с кем не бывает. А ядовита – так не тронь ее! Сама не нападет. Самый что ни на есть аспид уползет, уйдет с твоей дороги.
Стоп! Надо бы все по порядку. Есть такая наука – герпетология. Изучает змей. Лаборатория герпетологии и находится во дворике Терра Санкты. А называется: «Парк рептилий Иудейской Пустыни ЛТД». Т. е. частная коллекция. Заложили эту коллекцию профессор Авраам Шулов, зоолог (выходец из России), и Авраам Цахи. Профессор Шулов (ему уже за 80) – отец-основатель Библейского зоопарка в Иерусалиме. Сегодня же руководит лабораторией «животных ядов» д-р Нафтали Примор, токсиколог, сотрудник Иерусалимского университета, создатель сывороток, исцеляющих укусы желтого скорпиона и Цефы Исраэли, той самой (ближневосточный подвид малоазиатской гадюки), на чью долю приходится 96-98 процентов всех случаев укуса ядовитыми змеями по стране. Укус, скажем, эфы – страшнее (смертельнее), но количество яда впрыскивается меньшее, а эта цефа («росту» до 160 см) и встречается на наших тропинках чаще, и агрессивнее эфы, и яду в ней больше – кусает – вдумчивее и надежнее. Вот вам и смысл лаборатории ядов... А коллекция? Конечно, это скорее для красоты... Но и для целей, так сказать, познавательных, образовательных...
 Где ж еще можно переглянуться с Гина Монстром, ящерицей, мексиканским ядозубом ядовитости чрезвычайной из Центральной Америки? Где еще средний израильтянин может почесать – да-да! – голову питона или удава?.. (Об этом ниже!) Так ведь это еще не все! А крокодилы? Нильские, аллигаторы миссисипские, кайманы карликовые африканские (ростом с детеныша, т.е. до метра, но злобности вполне взрослой). А еще – вараны, гекконы, игуаны!
Где ж еще можно переглянуться с Гина Монстром, ящерицей, мексиканским ядозубом ядовитости чрезвычайной из Центральной Америки? Где еще средний израильтянин может почесать – да-да! – голову питона или удава?.. (Об этом ниже!) Так ведь это еще не все! А крокодилы? Нильские, аллигаторы миссисипские, кайманы карликовые африканские (ростом с детеныша, т.е. до метра, но злобности вполне взрослой). А еще – вараны, гекконы, игуаны!
Ну ведь и это еще не все. Какое дивное, пушистое, золотоглазое и ласковое ручное окружение – ожерелье окантовывает шипучую, шипящую коллекцию. По мысли ее собирателей, эти зверюшки – мангусты (рики-тики-тави-чик!), лисы, хорьки, ежи, а также грызуны – мышки, крысы, тушканчики, а также броненосцы, а также... ну и т.д. и т.п. – должны продемонстрировать всю эту экологическую цепочку – чем питаются рептилии и кто питается рептилиями. И демонстрируют! Да еще как! А сколько просто редкостей – и каких! – в этом флигельке. Аквариум с пираньей (людоедской рыбкой), террариум с саламандрами! Высоко над рептилиями клетка с белками, в вазе сидит ушастости невероятной лиса – не лиса, но что-то похожее. И подмигивает!
А Лори, душка Лори, обаятельная родственница лемуров с глазами-блюдцами, лопает с рук виноградины. А хорьки – они как грибы-семейка. Их можно подержать в руках.
Вообще – чуть ли не самое главное в этом волшебном доме – можно подержать в руках, и погладить, и покормить с руки, и подуть в морду, и быть облизанным мгновенным язычком, как раздвоенным, так и шершавым, и розовым...
Безусловно, случая поцеловаться с коброй или почесать каймана вам не представится. И палец в рот положить этой, как ее, Вальтернезии египетской, вам не разрешат. Они в прочных клетках, за толстыми стеклами... Очень толстыми стеклами и в очень прочных клетках...
Женя Дрейер, Евгений Дрейер, Женечка, может быть, если вы подлижетесь к нему или если у вас есть дети (о, сияют глазами дети в этом доме живых чуд и чудес!), позволит вам погладить мангусту, подуть в невероятную мордочку хоречка! Обязательно позволит.
Итак, представляю: Евгений Дрейер, 27 лет. Из Ростова, 2 года в Израиле. Зоолог, герпертолог. В этом ноевом ковчеге он – все. Он исследует животных, ухаживает за ними, воспитывает их, кормит, лечит и, кажется, живет для них. Сторожит их по ночам. Рассказывает о них взахлеб, и с таким азартом, и столько всего невероятного. И (по секрету) целуется с ними. По-моему, он читает им на ночь Киплинга. А как он командует этими гремучниками и Гилами Монстрами! Любо-дорого! Они у него все воспитаны в строгости. И почти-лемур Лори идет на голос. И ящерица, как кот, приходит, чтоб он почесал у нее (него?) за ухом (есть у него уши?). И, по-моему, даже крысы черные с улыбкой идут в пасть анаконде.
Спрашиваю о самом животрепещущем: змеи кусывали? Женя кивает. И список соответствующих, безусловно смертельных, производственных травм: был кусан эфой пестрой, коброй индийской и коброй египетской. Кончилось все благополучно? Как видите. Видим.
Вопрос второй. Эти монстры сбегали? Сбегал крокодил, точнее – аллигатор. Звать Улисс (хорошее имя для путешественника). Помните, недавно писали об аллигаторе, который пошел из Иерусалима в Тель-Авив (на выставку в Шфаим, на которую возили на гастроли питомцев из «Парка Рептилий ЛТД»). У средств массовой информации этот сбежавший во время транспортировки ящер подрос за сутки в полтора раза (с метра до полутора)... А так нет, все зверье сидит мирно по местам.
А кобра убежать того... не может? Или эта Стелла? (7 метров – на Махане Иегуда!!)
– Исключено.
И последний, и самый главный вопрос: как посмотреть на это чудо, как можно пожать лапку хорьку и обмотаться питоном боргези?
– Позвонить мне по телефону 02-754654, спросить меня – Женю. И заказать персональную экскурсию... Или групповую...
Приходите! На русском, на русском – дамы и господа, мальчики и девочки – языке.
К ВОПРОСУ О ФУРФЫЧКЕ НАТУРАЛЬНОЙ
В шесть утра зазвонил телефон. Накануне день был тяжелый, и я имел неосторожность закончить этот день весело, эдак часа за пол до звонка. В трубке медленно заговорили по-английски. Я почему-то решил, что мне звонит Анатолий Щаранский. Спросонья аглицкая мова ассоциируется у меня, как выяснилось, с ним. Звонил совсем даже не он, а, наоборот, некий мельбурнский бизнесмен, готовый-де поставить мне партию (не! точно не Щаранский!..) подержанных фурфычек (– Чего?! – Furfichkes!) к точно оговоренному сроку. И в любом количестве. По цене 192,3 доллара австралийского за штуку фурфычки, при заказе партии более тысячи штук фурфычек – скидка. Срок для обдумывания предложения назначен мне до четверга. Телефон и номер факса длиной с число «пи» до восемнадцатого знака. Я сел.
И обдумал предложение. Потом лег навзничь. «Добегался, – подумал я, – балагур».
Дело было так. Намедни, под мимолетное настроеньице, приспичило мне дать объявление в газету. В ту, куда пишу. Все дают объявления. Про «куплю абрикосового пуделя» и про острую необходимость «девушек от 18 до 28 лет для сопровождения» тела за ба-алшые дэнги. Про «убью по сходной цене» и «даю уроки макраме». Про «обращаю в тантризм на дому» и «Продам!» (группа товарищей). Все как-то устраиваются. Один я еше ничего не напечатал в разделе «куплю-продам-меняю-требуются». У некоторых может сложиться впечатление, что мне вот так – до гробовой доски – ничего не продать, не купить и мне ничего не требуется. Неверное ощущение. Скоропалительное. Я пустился во все тяжкие и дал объявление: «За недорого куплю подержанную фурфычку в хорошем состоянии».
На самом деле мне нужны были (вы будете смеяться) – деревянные стулья. Шесть штук. А фурфычка, если вдуматься, мне была совершенно не нужна. Но в газете имела место «мивца»: два объявления по цене одного, – вот я и не удержался и дал еще и про фурфычку. (Сразу же оговорюсь. что мебель мне предложили, реклама – двигатель торговли, а пресса – великая сила. Договорился. Отметил. И все. О стульях больше ни слова.)
О, боги, что я наделал! К чему привела моя пресловутая опрометчивость, я понял сразу же по выходе «Вестей» из типографии. Вот уж никогда не предполагал, что «Вести» из типографии выходят так рано. И так быстро. И сразу в Австралию – в Мельбурн.
При следующем звонке телефонную трубку простодушно подняла разбуженная и непричастная к моим экспериментам на человеке жена. Я забыл ее предупредить.
– Але, – сказала она недовольно.
(Шесть тридцать – я хронометрировал, неумело притворяясь спящим, готовясь к самому худшему.)
– Але?
– Шалом. – Телефонный звук в знобящей утренней тишине раздавался отчетливо.
– Кто-нибудь из взрослых дома? – откликнулся бойкий баритон.
– Дома, – сказала жена твердо и приосанилась.
– Так вот, – сказал баритон, – я продам.
– Ага, – сказала жена вежливо, – а что вы продадите?
– Простите, не поняла?
– …
– Слушай, – пнула меня ногой жена, шепотью прикрывая трубку, – там какой-то псих, и, по-моему, он говорит мне гадости.
– Не, все в порядке, – вяло пробормотал я и взял трубку.
– Ну, – сказал я, косясь на жену, – ну, куплю. Да, хочу. Нет, подержанную. Ну, в хорошем состоянии.. Молодую? Почему молодую? Молодую не хочу. Шесть месяцев? Чего месяцев?
– Мы уже уши купировали, – гордо заявил баритон, – привитая, от желающих приобрести отбою нет
– Да ну! – Я попытался придать своему голосу окраску радости беспредельной и заботливо спросил: – А не рано ли? Ведь застудите.
– Что вы! Она хороших кровей. От Концерта и Фиры. Дед – призер. Так берете?
– А почем? – спросил я, избегая взгляда жены.
– Восемьсот шекелей… – И, опережая возражения, затараторил: – Плюс даю кормовой тазик, и грамоты родителей, и байдарку, и братьев Гримм.
– Восемь шекелей, и ни копейки больше. Восемь, – отрезал я командным голосом Трафальгара (жена посмотрела на меня с уважением).
– Жадина! За эти деньги я бы и сам купил. Отрезать уши дороже стоило!
– Вот и покупай свои уши, – разозлился я.
Отбой. Короткие гудки.

Я облегченно перевел дух. Телефон зазвонил снова, что было само по себе и ничего, и даже мило с его стороны, учитывая разгоняющуюся к выяснению деталей жену, на глазах перекрывающую все показатели жены и превращающуюся в супругу, если не истицу…
Серебристый девичий голосок в трубке:
– Скажите, пожалуйста, что такое фурфычка? Мне почему-то кажется, что она у меня есть...
– Я в этом уверен, – быстро сказал я, увертываясь от щипков острыми коготками в не защищенную пижамой спину.
Раздавалось шипение. Раздувался клобук. Другой, свободной от щипания рукой жена искала на тумбочке очки.
– Если она у меня есть, я готова, – радостно переливался ангельский голосок, – ведь она у меня есть, правда? Хотите осмотреть на дому? Записывайте адрес: Крайот...
Жена нашла очки и придавила рычаги телефона. Отбой.
– Ага, – сказала жена, – опять «читательница»? Свежей фурфычкой интересуешься, ирод?!
Телефон зашелся дурным голосом.
– Восемьдесят! – рявкнул баритон. – И Голсуорси, полный.
– Восемь с полтиной! – закричал я.
– Ты что, ватик, обалдел? Ведь уши купированы! В конце концов, это безнравственно' Одних кормов сколько! Импортное детское питание .
Я швырнул трубку, но, по-моему, до этого разливался уже новый звонок.
– Утро доброе. Не будете ли вы любезны сказать, как будет по-русски «фурфычка»?'
– Оран непальцепарный, – рявкнул я.
– Ну вот, говорила тебе, учи иврит! – раздался в трубке голос, чем-то напоминающий голос моей жены.
– Слиха, – по-иностранному извинился интеллигент, – слиха за беспокойство.
Трубка не успела лечь.
– Что это такое – …? – строго воспросил начальственный, даже повелительный не голос, но глас.
– Ударение на первом слоге. На «у», а не на «ы». А у вас есть?
– У меня есть все. И все продаю. Гольем вернусь. Землю есть буду! Я все потерял. Пусть вернусь на выжженное место! – Угроза в голосе нарастала как снежный ком. – Ноги моей здесь не будет! Пусть опять – с нуля! Но дома! Где все – мое! Развели тут, понимаешь, ссссионисты! А там я все оставил: положение, особняки, квартиру с видом на Дом на набережной.
Следовало перечисление оставленного. В списке фигурировала сауна полевая переносная и персональная пенсия.
Я обалдел от великолепия и спросил, где это выдают и интересно, за что? Мы увлеклись разговором. Но у меня отобрали трубку.
«Сиха мамтина», – коварно улыбаясь, промолвила жена и развернулась ко мне.
Глаза ее светились. Таким образом, ностальгический разговор прервался, но телефон зазвонил снова.
– Але-але, – квакнул нехороший такой, склочный такой голос. – Вам какая фурфычка нужна?
– А у вас – какая?
– Двухосная. Передние – ведушие.
– Мне нужна полутораосная, – промолвил я. чтобы что-нибудь сказать.
– Ни и что! – ворвалась в разговор жена. – Двухосную мы не берем, не говоря о трехосной! Где мы ее будем вешать?!
– А может, возьмем, – примирительно (когда хочу – могу бьть и подлизой) промурлыкал я, – недорого если?
– Размечтался! И так повернуться негде. На мирпесете – дундуляс, в арбалетной полное собрание твоих эпитафий. Ни за какие деньти! Если берем, только полутораосную, и обе – обе ведущие.
– Полутораосных нет, – даже не огорчился вкрадчивый голос, – но я могу заказать. Имеются кое-какие связи в нашем ВПК. Вам какого завода – ЧТЗ или Могилевского?
– Кто же берет это могилевское барахло! – уверенно возразила жена. – У них в конце месяца, под праздники, сплошняком брак гонят.
– А ты откуда знаешь? – изумился я. Всегда полезно узнать источник информации супруги. Особенно такой неожиданной информации.
– Знамо, имбецил! – сверкнула глазами супруга.
– Не понял, – сказал продавец. – Но учтем. И медово протянул: – Бэ эзрат ашем, достанем. В шабат только не звоните.
– Ни за что, – сказал я, – не позвоню. В шабат – тем более.
И ответил на следующий звонок.
– Семьдесят пять! И ни шекелем меньше! У нее медали – за экстерьер, за красоту, за высоту и за взятие Севастополя!
– Проехали. Следующий!
На другом конце провода сразу захихикали, без подготовки. По шуму – сидела большая компания, звенел хрусталь.
– Так что? – отхихикав, провокативно начал, видимо, их затейник. – Будем покупать фурфычку или, как говорят у нас в Бельцах, глазки будетм строить?
Компания одобрительно заржала.
– В каком она состоянии? – строго, решив поставить весельчака на место, спросил я.
– Не потертая. Лилька, ведь правда, не потертая? – вероятно, оглянулся за плечо весельчак.
Застолье грохнуло.
– Так, – официально выговорил я, – жуйстер цел?
– Пока не погнулся. Ага, Лилька, не погнулся! Во дает! Жуйстер не погнулся, а! Ха-ха-ха!
– Гуд, – сказал я ледяным голосом, – беру. Сто двадцать тысяч устроит? Конечно, после теста. И при условии наличия идеальной системы наведения.
На том конце провода поперхнулись.
– Сколько? – севшим голосом прошелестел остряк. – Эй, вы там – заткнитесь! – проревел он обществу. – Сколько, вы говорите? Сто двадцать тысяч?
Компания за плечами фаворита вымерла.
– Йес, – твердо сказал я. – Сто двадцать тысяч. Долларов, конечно. Мелкими купюрами. Ну, максимум сто двадцать одна. С системой ночного видения.
– Извините, пожалуйста, господин, э-э…
– Называйте меня Экселенц. Для простоты.
– Извините, пожалуйста, адон Экселенц, ваше превост…тво, а-а-а…
– Извинения принимаю. И завтра к тринадцати ноль-ноль, – сказал я, – но только если жуйстер не погнут. И полная дискретность. И не вздумайте со мной шутки шутить. Знаете, что за это бывает?
– Знаю, обреченно сказал собеседник, – еще как знаю.
– Можете исполнять.
– Есть.
Дальше и рассказывать неохота.
Понятно, что подавляющее большинство изъявляло готовность немедленно продать, но после того, как я обьясню, что, собственно, покупаю. Многие предлагали меняться.
Понятно, что имели место и недобросовестные предложения. В частности, пытались всучить ангорского кролика-самца, даже не медалиста. Хотели втюхать слябы от блюминга и другие ненужные мне предметы.
Понятно, что жена со мной не разговаривает, а только зовет к телефону.
Собственно, интересных предложений было два. Первое, на которое я вынужден был ответить отказом, – предложение продать мне пару бурбуляторов. Сердце обливалось кровью, но вынужден был отказаться. Денег нету. Всегда хотел иметь пару бурбуляторов. Вот если бы мне предложили бурбуляторы года два-три назад, до женитьбы… Но это, как говорится, другой коленкор.
Ну, и понятно, что я стал счастливым обладателем фурфычки. Даже шестерых. Что ты будешь делать, если мне их принесли прямо на дом! Очень пушистые, сидят на шести деревянных табуретах, брызгаются, вращают колесами, открываются и закрываются. Умилительное зрелище! Вот так вот и сидят! И не вздрагивают, а есть от чего. Телефон звонит не умолкая. А я на все звонки отвечаю:
– А миспар ше игата элав эйнено мехубар!
СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ
...Всех утопить.
А. С. Пушкин
Завтракаю я обычно под «Ну-ка, солнце, ярче брызни!». Обвыкся, глотаю непережеванное. Читаю Пруста – рябит в глазах: «Дедушки в цвету» читаются в ритме абордажа из «Одиссеи». В смысле «капитана Блада». Поскольку под окнами лабают на кастаньетах «Полет шмеля». Сиеста у меня проходит под «Турецкий марш» на паровозных духовых и бас-геликон. Многие из неблизких спрашивают, «в чем тайна моей ритмики письма, волшебства стиля, бешеная азартная сюжетика?». Близкие знают: все дело в жилплощади. В географии, точнее – геометрии моего существования: мансарда моя высоко над иерусалимским мидрахов – в треугольнике Кинг Джордж-Яффо-Бен-Йегуда. Высоко, но не настолько, чтоб песни народов земли не достигали горнего моего слуха. Затычки, стыренные с последних артиллерийских стрельб, не помогают. Тишины прошу, тишины! Лучшее из всего, что слышал...
Можно заливать уши воском (свинцом). Можно, конечно, только не помогает: слышу височной, а по непроверенным научным данным и – лобной костью. Головы, которая (научный опять же факт) растет из шеи и называется на «ч». Человеческая голова, а не череп (как вы думали), который тоже ломит. Реверберирует, видимо. Засыпает мой мозг под «марш Тореадора» на огромном клавесине, а что? Он привык, мозг. Я никогда не числил себя в записных меломанах. И меня не числили. Люблю, поддавшись минуте слабости, насвистеть то-се, 6-ю симфонию. Но вообще-то Демиург меня слухом музыкальным обделил – когда я пою в ванне и голос ухает в вентиляционной шахте дома, новые постояльцы, новички и вообще новые репатрианты стучатся и спрашивают: «Что случилось?»
В пять лет меня пытались приспособить к хорошей профессии скрипача-виртуоза. Маме посоветовала тетя Софа хорошего педагога – старого Путермана. Старого и глухого, как Брандмауэр (тоже хорошая фамилия). Основателя целой скрипичной школы, воспитателя целой плеяды мастеров смычка во всех концах света. Скрипичная школа и плеяда мастеров во всех концах света осиротели через 2 недели (5 полных занятий со мной и одно сокращенное – удар, апоплексия, еще удар, и все! Минут семь в тот трагический день и отзанимались. Мы изучали нотный стан).
Нет, я не меломан. Отнюдь.
В общем, пошел я разбираться. Размялся, провел спарринг с тенью. Свинчатку в левую (у меня страшный крюк слева, если что...), капу в зубы, купец Калашников... Вздую, думаю. Особливо ксилофониста. А не подфартит, срубят с седла – вернусь, думаю, да и забросаю гранатами да лимонами с верхотуры своей, откуда «мне сверху видно все! Ты так и знай!» (На баяне, по-моему, с мотором. Пока я спускался по лестнице.)

О, эти российские судьбы! Вот стоит один: тенор. Портфель положил перед собой, выводит «звезду надежд» на веревочке-бечевочке кантора. Лавочники рехов Бен-Гиллель пригорюнясь по-бабьи его романсы до трехсот исполнений на дню выдерживают, не бузят. А я что – гадюка семиматюшная, зверь какой? Сколько ж ему недоспеть, чтоб на учителя пения скопить! Ведь не Травиата, цветочница – с карьерой впереди – до «Ла Скалы» аж.
Вот трио из ЦПКиО им. Луначарского (Нижний Волочек.) Все в октябрятских значках и с плакатом, – мол, свежие эмигранты из СССР. Жертвы ГПУ. Объекты преследования чудовища Менжинского. И состав классный: тромбон, дубон и саксофон. И с ними – фриланс – гиббон, в наряде цыгана, в поддевке, которого «научили бить баклуши, красть монетки из кармана». Слеза прошибает. Такой трогательный. Из Габона. В семье 13 человек.
Вот ксилофонист, при виде меня в стойке быстро сгруппировавшийся, хомут струмента на шею, оглобли скрипнули, гужевое начало и рысь на финише – где Сионская площадь бидиюк. Как пошел под откос, зачастил аллюром, чуть бабки не сбил, еле коллеги-ушкуйники под уздцы затормозили. Ату его! Вот генеральный вражина – золотая труба Крыжополя, полуночник, порги и бесс ему! Дай жить, Эллингтон недоделанный! Дюк! Антракт.
Ну, конечно, я все понимаю: каждый зарабатывает как может. Кто политобозревателем, кто с кистенем на квише, кто орфеем... Я вот – как могу... Ну что я, действительно? У всех – дети. У всех – кредиторы. Ну как можно наступить человеку на горло его собственной песней на слова Хренникова и муз. Добронравова? Может, он – солист, т. е. как я – больше ничего не умеет, кроме как петь на гитаре...
И тогда я услышал ее. Нет, сначала я услышал скрипку. Мощный скрипичный звук. Неуместный на ступеньках супермаркета. Даже вызывающий какой-то. Так, подумал я. Это бывает. Называется навязчивое состояние. Сверхценная идея. Дописался, короче. Бальзак.
Подобного класса исполнение я, конечно, слыхал. Рондо каприччиозо. Но, знаете ли, – с дисков или по радио. Лауреатское исполнение. А когда побеседовали с (имя, фамилию и подробности биографии я по просьбе почтенной этой дамы не привожу. – М. Г.), ну, скажем, Валентиной Георгиевной, я, конечное дело, расстроился. И образования две консерватории, столичная, а перед ней – провинциальная, гнесинская аспирантура, потом в том же порядке провинциальная, а потом столичная доцентура. И действительно – не одно лауреатство. (Тут же, из рюкзачка достаются ветхие дипломы.)
– Но подождите, Миша, я еще поиграю!
И снова – рондо каприччиозо. С тем же блеском. И снова. Я насторожился. А живете вы где, Валентина Георгиевна?
– Под божьим небом. Хотите, сыграю?
Рондо каприччиозо.
– А зачем вы здесь, в смысле – почему вы играете на улице? Деньги нужны, безусловно?
– Деньги? Ну зачем вы так, Миша. Деньги что! Я его вызываю...
– Кого?! («Не дай мне Бог сойти с ума».) Я похолодел. Я уже знал ответ.
Она посмотрела на меня с чувством такого превосходства, что я пожалел о напрасном вопросе. Итак – все ясно. Клиника.
– Второго Эона, – сказала Валентина Георгиевна вполне ожидаемо и спокойно. – И имя ему – Окурт.
Над ухом, на ходу перестраиваясь, пожарный оркестр Каховки грянул «Черемшину». Пусть уж лучше это, подумал я. И пошел вслед вприпрыжку, до самого перекрестка, мучительно не в ногу. Передразнивая самого себя, а не их, бедных. Каждый зарабатывает как может. Особенно в теплую погоду.
И еще, где я уже слышал это имя – Окурт? Окурт?
БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ
«Поэту пристало носить белые одежды… Покроя вольного, но строгого, не стесняющего движений…» – это Ибн Рушд делится своими представлениями о способах сохранения достоинства литератора в вытачках.
Во времена династии Тань (был у меня такой период в жизни) цвета поэтического цеха были желтый (цвет солнца в сероватый денек на берегу Хуанхэ, в июле, в 11.32 утра, после четырнадцати приседаний гоу-фэ) и серебряный. Персы, в отличие от мидийцев, назначали версификаторам, ворам и психам – черный. Фатимиды – опять же черный и патриотический тюркиз, в Провансе менестрелям положен был чернополосный-краснополосный, а вторая штанина просто красная, при дворе Маргариты Наваррской – белый и голубой с бубенчиком, греки наказывали шафранный, но без никаких штанов и коричновая окантовка. Индусы, русские и ирокезы предлагали рубище в защитных тонах, миннезингеры должны были одеваться в голубое, скальды – в белое и опять же красненькое. Маяковский настаивал на желтой кофте, плавно переходящей в синюю блузу (рукав шале, вход свободный и пройма). Карл Девятый запретил бантики – он прямо с ума скодил, видя на поэте-гугеноте бантик. Екатерина Великая, большая дока в туалетах, никак не могла выбрать гамму униформы, фавориты каждый тянул свое: Потемкин настаивал на рюшах (чтоб цвет маренго) и орденах, а Чарторыжский напротив: пся крев, говорил, стойка, боска и оборочки. Во Франции одно время преобладал унисекс – флорентийский стиль, в Англии – наоборот – французский (перо носили слева, цвет исключительно голубенький, в петлице барбизонский подсолнух), в Германии – черный с дубовыми листьями, в РСФСР обычно письменникам назначали к ношению два варианта костюма: полосатый на выход и деревянный на вынос, в первом случае – лауреатский значок на планке, во втором на бархатной подушке. Шили навырост, впрок.
Абсолютный беспредел настал в так называемый постмодернистский период, о чем – ниже, четыре сантиметра ниже колена!
Хотя декаданс отличался известным плюрализмом: Есенин носил лапти и балалайку навыпуск, Волошин – хитон, Скиталец – косоворотку {как будто он Горький, но пьяница), Мандельштам обходился шубой, Ахматова – шалью и обеими перчаткам на правую руку, а Пастернак {по воспоминаниям Нейгауза «вообще был такой ранимый, что) без кожи ходил».
Луначарский, при поддержке горского поэта-семинариста, ввел моду на френчики для Бедного и мягкие полусапожки (Глазыри, глазыри… Никуда без глазырей!)
Вознесенский же даже в баню не ходит без фуляра от Ив Сен-Лорана. Лимонов сам себе незатейливо, но талантливо шьет брюки гульфиком кзади. Бродский одевается так: мягкий квакерский сюртучок с набрюшником в профессорском стиле, обязательный инжамбамант в строчке, обилие деталей – накладных расходов в конце предложения из кожезаменителя. Одна пуговица на все про все. Ретроград.
В Изгнании, то есть в поэтическом своем рассеянье русские поэты – те вообще с ума посходили, напяливают что плохо лежит: поэт Владимир Тарасов украшает головогрудь бисерной кокеткой, поэт Лосев носит очки с диоптриями, поэт Кузьминский ходит срамным и голым, поэт Волохонский таскает галабию по мюнхенским мостовым, поэт Бокштейн подпоясывается вервием, поэт Верник окончательно застилизовался под эпоху москвошвея, в беличьего меха жакеточку в хамсин гусарит сочиняющий художник Гробман, поэт Д. Зингер вся в ретрухе, начес на поэте Бараше ниже всякой критики. Губерман не меняет нарукавников (прямо сердце обрывается), поэт Кудрявцев таскает мою шинель с алым подбоем, о поэтессах не говорю. Оглянешься с холодным презреньем вокруг – одни ряженые. Какой-то дактиль, честное слово.
Нет, конечно – пристало. Прав, тысячу раз прав Ибн Рушд! Белые одежды. Не стесняющие движений. Вольные. Но – прошу записать в протокол – строгие. Прямая спинка. Манжеты для черновиков. Отвороты. Шлиц! Куда сегодня без шлица?! Шлиц – я настаиваю! А фестончики с гофре убрать. Чтоб не мозолили гофре мой тюрнюр. Положа руку на горжетку, я так скажу: люблю я, знаете, роскошные прикиды! Чтоб на люди не стыдно. И чтоб материал сам за себя стоял (пан-бархат, креп-дышин, пар-ча!), и чтоб яркая заплата. И хотя из пристойных моей экзистенции партикулярных одежд, как-то: редингот, мантель, болеро, пончо, смокинг, бриджи, техасы, ташка, бармы, бекеша, толстовка, шлафрок верблюжьей шерсти с бранденбургами – дарят мне (а одеваюсь я, по скромному своему достатку, – увы, в основном, в добровольные – или пока не выпросишь – пожертвования) платье, не совсем отвечающее моему строгому вкусу и претензиям на утонченность.
Тут вообще есть некоторая тонкость. Следует поставить себе порог, ниже которого ты не падаешь, – спроси у своего сердца: что на себе будем носить из дареного, а что не будем. И тоже кому-нибудь презентуем, с барского плеча. Хоть на помойку вынесем и там уже подарим, хоть – пусть полежит, пока не потолстеем. Чай, сами себе – цари. Мотылька на плече носящие.
Вот недавно, полдесятка лет тому назад, принял я подношение. Мундир с эполетами. Почти что и не ношеный. Вторые, вероятно, руки. Сидит, как влитой. Видимо, офицер морской кавалерии доминиона Канада умер, будучи моего телосложения. Согласитесь, с эполетами не пойдешь на прием к пкиде гизбарута ирии просить не отключать воду еще денька два. Не идут эполеты и в маколете. Так я какой выход из положения нашустрил? Спорол галуны, подштопал дырки от орденов, погоны, жестом разжалования – прочь! – а что?! По сей день не разуваю: так и хожу. Ноги на ширине плеч, руки на уровне груди, зубы навыпуск. Мне очень идет мужественный покрой кителя и цвет его волны.
Оттеняет покладистость моей природы-тевы. И действительно, ну их! – эполеты! От них одна головная боль. Или – муфта.
Казалось бы, на что мне муфта? А бывало, в хороший декабрьский ливень, когда молнии кривляются в высоте, как будто «нетопырь летит весь – крыла воздев» (Шломо ибн Габироль. XI век. Перевод мой) и Ниагара с потолка – сядешь под зонтиком к столу, ноги – в муфту, а сверху, поверх колен передничек (доставшийся мне по случаю – встала на капиталку операционная) клеенчатый, чтоб кровь стекала, и где кровь – там и вода, где пьют, там и льют, – так вот, сядешь, бывало, дома, на улице Бен-Гилель (но не тот!..), смотришь, ливень и прошел. И светло так в воздухе, после грозы! И радуга – от книжного стеллажа до шифоньера – многоцветная радуга-дуга перекинулась. Блаалепие! И муфту можно даже и не перешивать. Ну, о шинели я уже писал. Много хорошего, выйдя наружу, я мог сказать о шинели. С трудом войдя, выдавивши из себя по капле раба. И всему хорошему в жизни обязанный книгам.
Вообще в жизни моей в Израиле есть место всему: буркам, бареткам, унтам. Паре-другой дох, одной епанче происхождения по бедро, полукостюму для получасовой езды по ландшафтам повышенной непроходимости – и стеку с рукояткой-уточкой.
То Карден привезет коллекцию Зайцева, то Юдашкина принимают за Гуччи – и все на пространстве кройки границ и шитья протокола о намерениях. А я... – я предпочитаю пребывать в неведении о бывших носителях и наполнителях моих костюмов: моя рука – вторая, молодость моя – не первая, дыхание – не третье. А проза – четвертая, получите жетон на призовую игру.
«Поэту пристало носить белые одежды...» – процитировал я приказчику в свое время, решившись приобрести сооответствующий своему статусу и мне белый колониальный костюм (в виде исключения за собственный счет собственного шального гонорара). Продавец бутика «Альфонс», хорошенький до чрезвычайности, окинул меня цепким взглядом и забеспокоился. Хотя, на первый взгляд, я должен быть еще ничего. Зрелый мужчина, в персиковом блейзере (прощальный дар моей Изоры), палевой шелковой сорочке (застегивающейся на левую сторону, ну кто считал...), чесучовых брюках-сосидж, в первый раз купленных в 1929 году в эпоху Великой Депрессии в Атланте, но еще хоть куда (благотворительная посылка), в галстуке «Армен де Грасс» – подарке одного лауреата Пулитцеровской премии, в жилете цвета изумрудного голубиного горлышка (если голубя покрасить), из кармана которого брякает дутая цепь американского золота, приводящая взор к дутым часам-луковице. Выражение лица искательное: белые, говорю, одежды.
Продавец был тертый, интуиция работала: то, что он со мной напечется, – ежу ясно. Продавец вздохнул.
– Ну, – грубо сказал я.
– Сами носить будете?.. Или в подарок? – продавец поколебался. – Другу?
– Сам!
– Белый-белый?
– Белый-белый.
– Реглан?
– А хоть бы и реглан!
– Регланов нет.
– Тогда не реглан.
– Белый?
– Белоснежный. Лебединый. Летят гуси.
– Ничего. Гуси летят. Цвет – лаван.
– Белых нет.
– Так вот же висят! – я показал на ряд.
– А-а. А размер?
– На меня…
– Нет у нас.
– Есть.
– Нет…
– Обязательно!
– Слушай, а зачем тебе белый костюм? Ты что, замуж выходишь?
Я посмотрел на продавца. Он покраснел и отвел глаза. То есть – наоборот – отвел глаза и замялся…
– Слиха, – буркнул он, рассматривая ногти на просвет…
– Ну! – требовательно сказал я.
Приказчик встрепенулся. Глаза его зашарили по моему лицу, он панически соображал, кто ж это оторвал его от размышления, видимо, о том, что Элохим натан, Элохим лаках, а некоторым не натан…
– Уже, мсье, – сказал скучно и тускло черномазый, но смазливый приказчик, – чем я могу вам помочь?
– Костюм… Белый… Лаван-лаван… (Ты что?! лоно матери твоей, издеваешься?! лоно сестры твоей! Ты, подверженный перверсным склонностям, содержатель женщин легкого поведения!) Дай мне костюм.
– Ваше дело, – сказал продавец, тряся пробором, пожимая плечами, разводя руками, качая тазом, закатывая глаза и сардонически покашливая.
И как ребенка подал мне Его. Я понес его на отлете в примерочную. Продавец включил транзистор. Давали Патетическую.
Так ладно на мие не сидел никто, включая 27 лет жизни при советской власти. Он даже и не сидел, он возлежал, он лежал на мне, на моем нежирном костяке. Он скрыл, как мама заглаживала в детстве ушиб, легкие недостатки моей точеной фигурки: сутуловатость (сколиоз там), непрямоногость, недостаточную рослость, не очень чтобы длинность, животик, где он у всех нормальных людей располагается, и прочие тяжелые дефекты осанки.
Я исчез. Имел место многократно преломляющийся в зеркалах – костюм белый-белый. Колониальный. Драгоценной чесучи. С девятью филигранными, совершенными пуговицами на триумфальном фасаде. Простой и изысканный одновременно и в одном и том же месте. Костюм, белые одежды. Я затих. Я вздел руки. Костюм подхватил на лету, быстренько отрежиссировал и довел до совершенства мой жест. Как выпустил голубя под купол неба Иерусалима.
Я расправил плечи – костюм! Костюму полагалось баронетство и орден Бани. Я подбоченился – костюм уже раскидал банду наемников, пытавшихся похитить леди мою Диану. И обесчестить. Но не тут-то было – костюм был начеку.
Я представил себя читающим свои политологичесяиѳ колонки в этом костюме перед толпой, скандирующей: «Ми-шень-ка! Ми-ше-нька! Мо-ло-дец!» (и похороны, не хуже чем у Высоцкого!) И конкурс красоты вдов моих безутешных. О, костюм!
Я представил себе вдов моего костюма. Попробуют мне теперь отключить воду! Пусть только сунутся соседи с претензией, что, мол, протекаю. Я надерзю в банке! Беркут будет есть с моей руки. О, костюм!
Нарисуйте себе мой портрет в этом костюме! Умоляю, нарисуйте себе мой портрет. Нарисовали? А теперь сверните его в трубочку. Свернули? А теперь за… М-да. Впрочем, не надо. Я ни разу его не надел.
КОНДРАТИЙ И ДР.
В гороскопе указывалось прямо, без обиняков: «Вас ждет праздничное ощущение полноты бытия. Начинается неделя, особо благоприятная для творчества, занятий спортом, развлечений, предстоят знакомства романтического свойства. Возможен флирт. Повседневная обыденность отступит на задний план. Кроме затмения, на астрологическом небосклоне особых неприятностей нет…»
Я зарекался гороскопы читать. Средний мой гороскоп заучит как меморандум Моисеевой работы: смерть первенцев да реки крови. И дождик из амфибий. Жанр черной литературы: «финансовые трудности, осложнения в семье... Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой день недели для Тельцов чреват…» С финансами у меня никаких трудностей – это в прошлом у меня были трудности, времен тех еще гороскопов. С финансами – у меня их, финансов, – нет; с семьей у меня обстоит особенно отлично – даже с несколькими бывшими семьями, дружу я в основном с тещами, а то, что у Тельца – рога и мычанье по полнолуньям (тоска по телкам, знать), так я и сам знаю, что не Дева... И нечего напоминать. Я парнокопытное, а носки, тем не менее, всегда непарные из стирки выходят. Никогда не подобрать на пару смежных копыт. И Водолей – с потолка в моем доме. «Для Тельцов чреват...» Одна астролябия мне тут намедни нагадала появление Рака в апогее Козерога. Прямо на дому. Причем – самку. Вероятно, она имела а виду себя, недаром (50 шекелей визит, дешевле гариним) глазками стреляла трассирующими, головогрудь из-под мониста выгибала и усы пощипывала. После ее ухода не подавил желания окропить помещение. Я ей пытался втемяшить, что по индонезийскому гороскопу я бампуку, поэтому, хиляя по дзяну, восхожу к цуню. Она обе чакры раскрыла и не верит. Хорошо, думаю, – добью гериатрессу. У майя, говорю, был хороший обычай: всех рожденных под порогом пекари считать краснопевочкой. Так ты и меня, парамела, считай краснопевочкой... Никакой, говорю, я не Кецалькоатль, а вполне рядовая краснопевочка – тукактли. Мне потом из мазкирута звонили, она, ясновидящая, ясно видит, что ее Кецалькоатль обязательно прилетит – весь в перьях, – навестить ее (Рака в Козероге) в закрытом отделении «Эзрат нашим», где теперь, после визита ко мне, – ее гнездо. Но мы, Тельцы, никогда не делаем первого шага сами. И нечего звонить и спустя загадочное молчание напевать: «Не кричи, пернатый, не волнуйся зря ты…» У дороги Ибис…

Короче, прочитал я про «праздничное ощущение полноты бытия», и к вечеру меня хватил удар. То есть это в старину так говорили – «хватил удар» – по всяким пустяковым поводам. У них все называлось «кондратий» {о, эти блаженные времена загадочных диагнозов: «антонов огонь», «черная меланхолия», «грудная жаба», «надрыв становой жилы», «чахотка-сухотка-лихоманка», «почечуй», «рожа», «анасарка», «пляска св. Витта» – о!), «хватил удар» и разбил паралич. А меня паралич разбил вполне частично – называется: фациальный парез – левая половина лица померла, а в остальном я весь как живой. Если кому попадалась обложка моей первой книги («Въезд в Иерусалим», издательство «Москва-Иерусалим», Тель-Авив. 1978, 182 опечатки, библиографическая мерзость, а нынче и редкость) работы Симы Островского – там (см. илл.) мой сюрреалистический портрет. Провиденциальный дизайн! Так я теперь и выгляжу. Последняя надежда на обложку моей последней книги стихов («Праздник») – там изображена бабочка... Это на следующую инкарнацию. А в этой – разбил паралич. Говорить могу, но как литературовед N. (не удаются щечные, губные, зубные и зазубные, хорошо удается только «пфе»), зза-за-заик-каюсъ, как поэт N. N., и нетвердо сижу на стуле – заваливаюсь. Пфе... поражен вестибулярный аппарат. И а глазах красные к-кх-кхмеры. А один глаз не закрывается. Я, понятное дело, распсиховался. Доктора, даже если они не у дел, очень щепетильны по части собственных недугов. Как врач-расстрига вам говорю. Болести их нервят почище простых смертных, и «исцелися сам» звучит как дразнилка. И болеют Гиппократы вздорно, сущие иовы – затяжно, с комплексациями, не как люди. Как нелюди болеют... А тут – на тебе! Буквально так: бац! и облысел. И так же заметно. Не говоря о неудобствах с погарцевать, выпить чашу доброго вина и прочих паблик релейшнс. Опять же пресловутые акты сострадания со стороны читательских и широких масс. Одна вот встретила меня – «Эк вас, 6атенька, перекосило!» И ведь кто, кто? – лучшая из бывших жен!..
Другая, подруга детства, зрелости и член муниципалитета, приказала: «Переименовать поэта Генделева – в поэта Кривулина». Третья, та просто плакала, роняя частые, но тяжелые сорокалетние слезы, – недавно она потеряла мужа. Плакала она, приговаривая: «Ой, не могу! Ой, не могу... Счас умру. Ты это сознательно?.. Да?.. Ну, даешь!..»
Я дал. Я стал, как выразилась коллега, – аттракцией сезона. Меня навещали и носили к одру молоко и мед. Открываешь глаз: сидят. С калами, наброшенными на руку, кренделем – как жакетки из выхухоли. Сноп кал. Цветы такие посмертные. Очень хочется закрыть глаз: «Опустите мне веко!» Но веко не опускается по причине смешного птичьего симптома – птоз. Поневоле смотришь. С высоты предсмертья – одной щекой в могиле.
Собственно, я и до кондратия был недурен собой, многих привлекал. Глянут, бывало, на меня и задумаются о многообразии человеческих типов. Вон мозг Анатоля Франса – до кило не дотягивал. А что у Шкловского лоб – это еще т о чем не говорит! Я о том, что – да! – мал золотник, да дорог. Не всем же пяди во лбу. Зато – нос! Что только с ним не делали – гнулся, но не ломался. А в три четверти если профиль анфаса – мы из рода гордых мишей, полюбившись за сараем, мы немедля умираем. Или, любимое: «синерукие джамбли живут».
Недурен я был собой, да не тем брал. Живостью брал, играл на контрасте: вот ведь специфической внешности хомо, а говорящее! (Примем обеими половинами рта. Э-э-х... х-х...) Многие просто остолбеневали, когда этот марокай открывал рот и говорил по-русску. Чем еще брал? Ну, фасоном и вытачками. Были времена…Транзит, глория моя. И, видимо, мунди.
Лежу. Весь как есть – периода «Последних песен». Думаю о папе. Царство ему небесное. Четыре инсульта перенес. Мне слабо. Думаю: пол-лица умножить на четыре минус ноги. И щечные зубные. Сбиваюсь со счета, отвлекаюсь – сколько, думаю, меня бросало. И сколько – кинуло. Кидалово – есть теперь такое русское слово – в дрожь! Сотрясаюсь, а щека уже – мраморная. Замечаю, что посетители все время мне что-то предлагают на мне испытать. Сознание – теряю.
Учил себя произносить «Бабэльмандебский пролив». Как произнесу – приносят попить из поильника. Удивительно бестолковые сиделки и сиделицы. Обтирали спиртом, обидно – но муравьиным. Когда оправлюсь – обязательно опять женюсь. Мы теперь не гордые – возьмем с легкой инвалидностью. Мне, пользуясь моей беспомощностью, все время читают вслух: «Смерть коммивояжера», «Время жить и время умирать», «Девочку и смерть» и «Человек, который смеется» (последнее – про меня, только я полусмеюсь, полуусмешка у меня такая).
Наперебой предлагают пригласить Луизу, открыть космический канал у Джулии и посоветоваться с Иланой. Принесли свечи. Я отказался. Настояли, под предлогом Хануки. 8 штук. Согласитесь – это много. Вот-вот гастроли Джуны. Надеюсь не дожить. Вероятно, мне помогут массажи. Контактные. – Контакт? – Есть контакт! – От винта! Прислали письмо: «Незамужняя, 92, 26 - (минус) 1, ищет интересного». Пригласил зайти. 92 это рост. 26 – год рождения. Интересный – это я. Вечер удался. Как мало, в сущности, мне осталось.
Привели волшебную собаку. Полизать больное место, и как рукой снимет. Я выговорил, несмотря на щечные. Обошелся задненебными. Опять дали попить из поильника. Шелудивый пес завезен в ходе операции «Ковер-самолет». Его тренер сказал, что у меня чумка. Я ему сказал, что у него самого заячья губа. И волчий зев. Дали попить из поильника. Читают вслух «Смерть в Венеции». Хочу в Венецию.
Когда же кончится этот зодиак? Который «благоприятствует творчеству, занятиям спортом и развлечениям». Звонили из редакции, спрашивали для некролога шнат алия. Пришел шаман. Камлал. Бил в меховой бубен. Предложил банки. Потом спросил, почему я дергаюсь. Я сказал, что я уже решил. Я выбираю банк Дисконт! И он меня – тоже, до основания. Читают вслух. Из меня. «Когда я умирал, а я точно запомнил сон – когда я умирал…» («Прекращение огня»). Заходила дочка. Спрашивала, не может ли она поиграть в компьютер, ведь все равно он мне больше не понадобится. По телику давали «Молчание ягнят». Речью уже владею. Правда, она этого еще не знает.
Звонили из редакции. Интересовались, почему я не сдал политическую колонку и какого цвета у меня были глаза. Приходил хиллер, старый камчадал. Дышал на меня как на ладан. Лечит мануально. Я отверг. Его поили из моего поильничка. Народный доктор прописал:
Rp: гуано – 3 ст. ложки
Прополис – мензурка х 3 раза в день.
Изокерит – повсеместно.
Мумие – per os.
Барсучий жир – поверхностно.
Змеиный жир топленый рафинированный – перед каждой едой.
Облепиха – со всех сторон.
Я принял.
Вернулся дар речи. Узнаю окружающих. Когда хорошо узнал – пропал дар речи.
Привели курдку – сказали, что она может целебно плюнуть. Я отказал наотрез. Поили из поильничка. Сказали, что волнение мне не показано. Звонили из редакции. Спросили вдову. Все три подошли к телефону. Старшая объяснила, почему я не написал политическую колонку. Младшая рассказала много интересного о старшей. По радио – «Гибель богов». Думаю, что Валгалла мне обеспечена (бе эзрат ха-Шем!). Нюхаю и слышу уже хорошо.
Д-р нетрадиционной медицины из Мги настаивает на уринотерапии. От доноров отбою нет. Поили из поильничка. Звонили из редакции. Там все потеряли, поэтому просили даты жизни по памяти. Факсом. Назначили писать NN, спросили, как я на это посмотрю. Я пошутил: «Посмотрим».
Спасти меня может только обертывание – так объяснила мне одна заезжая из Цны: обертывание с последующим обласкиванием. И жим и отжим – программа «Суперледи (Кристалл)». Я сказал, что мне поможет осиновый кол и 13 серебряных кадурим. Звонили из редакции, из отдела рекламы. У них там прошла реклама: «Аппликатор Кузнецова». Говорят, помогает, а я даже уверен, что помогает. Пришли какие-то люди и иглоукалывали все тело. Слышу уже хорошо, различаю ноты. Ночью проходил процедуры: шияцу, даяцу и субару. Бегло гутарю на диалекте Хань. Никуда не выхожу без аппликатора. Это чудо какое-то!
Мне надо поголодать! Это точно. И перейти на американский натуральный продукт. А прошу только одного – морошки. Не звонили из редакции. Слух прошел окончательно. Подносили зеркало.
Собрались друзья и коллеги. Выразили общее мнение, что меня лечат неправильно, особенно пагубен аппликатор. Ели кутью. Душой с ними. В сущности, они все – милейшие люди и хорошие профессионалы. Вечеринка удалась.
С утра дудели. Снизу. Гаврила. Свесившись из окна, швырнул в него гонорар. Не попал. Себя – чувствую, но выхожу из себя по любому поводу. Разбил поильник. Звонили из редакции. Спрашивали, как пишется слово «эвтаназия». Я не согласился.
О КАК НА СКЛОНЕ
Ипохондрия, меланхоля, грусть – с кем не бывает, особенно с каждым вторым, особенно с каждым первым и т. д., пока наконец не достигаетесь до себя – Мишеньки. Мне лично чуждо очень многое человеческое и не чужды некоторые свойства богов и героев, однако вдруг ни с того ни с сего накатит, знаете, хоть святых вон выноси!
И вдруг выясняется, что задирать голову в январское небо, нет, вы подумайте! – уже даже и аж до одна тысяча девятьсот девяноста четвертого года от истребления младенцев –задирать голову в небо не с неприязнью к последнему (у неба есть свойство протекать сквозь дыры в крыше, норовя метко за шиворот в теплую постель), а исключительно на предмет увидеть звезды, которые последний раз наблюдал во время последних воинских сборов и удивился. Небо видим – в армии, цветы – тюльпаны уже не дарим предмету с опасением, а вдруг предмет их отвергнет, а сами получаем букеты бессмертников, причем совсем не от них, от кого я даже сейчас бы – «ах, не ожидал»…
Ипохондрия-меланхолия-грусть. Что делает средних лет холостой политолог и журналист с большим прошлым и проблематичным настоящим, с полуулыбкой на физиономии лица с необщим выраженьем в непогожий вечерок шабесного нестрогого режима? Если меланхолия et cetera? А?
Ответ неудовлетворительный. Нет! И еще раз – нет! Уломать меня не удастся. Во-первых, нет у меня камина. Отапливаюсь я, быстро бегая по жилплощади мансарды, высекая его и трением. С размаху вылетая на лестничную клетку в когти соседей на предмет выяснения. Очень согревает, пламенит. Так что ноги я ни за что не протяну (к каминной решетке).
Во-вторых, я могу почесывать за ухом не верного в беде друга, а исключительно себя. Бобика у меня нету, он бы у меня не зажился, в связи с затяжными периодами диеты и жизнью, когда нервы как струны.
В-третьих, я не пью один. Причем не принципиально, а потому, что мне становится себя жаль, с чем я решительно не согласен.
А изливать себе душу?! Увольте. Так что вы кругом не правы, обмишулились, полный афронт.
Можно, конечно, почитать книгу, но, по-моему, я их уже все написал.
Можно, конечно, включить телевизор, но все время напарываешься на «хадашот», после чего ипохондрия приобретает черты застарелой каталепсии, меланхолия чернеет, а грусть превращается в перманентное бешенство от мирного процессса и тянет проповедовать пернатым, сидя на палестинской горе имени себя.
Можно, безусловно, тряхнуть стариной и создать худ. произведение в стихах.
Но последнее креативное состояние разрешилось у меня в дистих: «Да здравствует мыло душистое! И веревка пушистая», после чего я посчитал свои аполлонические функции отправленными и затих.
Можно позвонить прелестнице и пригласить. Но они, прелестницы, совершенно не моют посуду. А те, кто таки моет посуду, спрашивают, кому я завещаю свою жилплощадь, если что?.. И чей это портрет в ослепительном белом костюме, весь – гоголем перед восхищенной аудиторией, а? Что-то знакомое?.. Я отвечал, что это мой побочный сын, пока не сховал с глаз долой фотографию двадцатилетней давности, чтоб не мозолила душу.
В общем – можно. Можно, только нельзя.
И тогда средних лет политолог и журналист с проблематичным прошлым и ненастоящим будущим долго и внимательно, с отвращением бреется, стараясь ие особенно расстроиться окончательно, завязывает оксфордский учел на Пьере Кардене или Петруччо, надевает твидовый пиджак с чужого, не живого уже плеча, но сидит как влитой, поверх небрежно нахлобучивает редингот хорошей парижской работы и времен Дюнкерка и почти что не потертый, если в сумерках, берет циклопический зонт и выходит в свет, т.е. в темноту. Насвистывая «Хабанеру».
На улице Саломон и окрестностях всегда найдется место подвигу, нарушению заповеди о поведении в царицу-субботу. На улице Саломон и окрестностях всегда найдется место подвигу нарушения заповеди о поведении в царицу-субботу. На улице Саломон (привет, Деби!) всегда можно (здравствуйте... как тебя зовут, убей, выпало, но обдолбана ты, соплюха, не по годам...) отдохнуть и набраться (о да, очень приятно! Ори? Ну конечно, помню, Орочка! Вас. Всегда. Что значит, как поживает моя дочь? Ах, ты с ней в одном классе? Ну, и как успеваемость?..) Нет сил.
На улице Саломон (Да. Это я – Генделев. Здрассс. Нет, это не я написал при машканту. Мудоид… Обязательно, все, слово в слово, передам Гутиной. Уже передаю! Есть, товарищ гвардии майор! Расстрелять? И об исполнении доложить? По команде? Есть, товарищ майор! Что значит, не по форме одет? Исправлюсь, товарищ майор! Легитраот, товарищ гвардии… подполковник, раз, два, три, четыре, надо принять что-нибудь от давления) и в окрестностях (Клара? Ах, прости, дружок, – Флора. Ты прекрасно смотришься в этих рейтузиках. Что значит «это не рейтузики»? Это что, ноги у тебя такие? Теперь?! А грудь ты подтянула и теперь она как тогда? Как когда – тогда? Нет, я не хочу сейчас взглянуть. Как-нибудь забегу, мы оба посмотрим. Ты у меня, я у тебя. Этот, как его, Арик? Он все еще с тобой? Давно в могиле? Я очень рад. М-да. Повидаться в смысле. Потанцуем обязательно. В следующей инкарнации.) одинокий джентльмен всегда найдет, чем душу отогреть и провести (Нет! Носик, это – мой брат. Близнец. А, вас зовут Нечипоренко! Как мило. Надолго к нам? Навсегда?.. Вы отлично помните Толю Щаранского? Ах, еще бы, вы его сажали... А Кузнецова вы случайно не расстреливали? Совершенно с вами согласен...)... и провести вечерочек. Наедине с собой (Габи?!! Ну, ты даешь, хабиби, сто лет не видел! Ма иньяиим? Ах, вот в чем дело... Какая Колумбия? Колумбия-Колумбия? И эти твоя охрана? Теперь так, значит… Что, и наш самгад тоже в деле?! Кто фрайер? Я фрайер? Я не фрайер, я политобозреватель. Пришлешь самолет? Я боюсь летать на истребителях. Ну, всем нашим – привет от доктора Михаэля...).
Первым делом следует заказать бренди. Бренди, пожалуйста!
Ну, допустим, здесь я говорю по-русски... Сказать этому козлу, чтоб доливал после отстоя пены? Простите, но и так доливает… Просто так сказать? Чтоб знал? Наших? Каких «наших»? Ах, ваших?! Как это будет на иврите? (Боже ты мой, а как, действительно, это будет на иврите? Нет, я не знаю Колюню. А почему я, собственно, должен его знать? Вот как? Мы с ним одно лицо? А как он добивается подобного сходства? Нет, я не сидел, вы неправильно догадались. И на этой, как вы сказали, Кременчугской пересылке – тоже. Нет, эта (вычеркнуто цензурой) не с рождения. Эта (вычеркнуто цензурой) у меня благоприобретенная. Боюсь, что вы заблуждаетесь, здесь не все – козлы.
А почему это я должен брать пузырь и айда в садик? В садик я не люблю, там дождик… Знаешь что, дяденька, я те сам зенку выдавлю, на всякий трагический случай. Вот-вот. Именно «ватик». Сам ты козел.
Дабл бренди, плиз. Марина, а эта новенькая, она давно здесь торчит? Как ее зовут, говорите? Аглая? Да ну, брось, Марина, в мои-то годы...
Аглая, добрый вечер. Меня зовут...
А я с вами не разговариваю, молодой человек. Что значит дан? Кому дан? Вам, значит, дан дан. Черный пояс. С кружевами.
Марина, не надо звать Боба, умоляю.
Боб, все бесэдэр, просто у этого молодого чемодана черный пояс и он хочет мне показать. Что вы мне хотите показать? Нет, у Боба нет черного пояса, его вообще не подпоясать с его ста восемьюдесятью кг., не правда ли? Боб, не рычи, он уже уходит. Очень приятно было повидаться, заходите на огонек. А потом – к дантисту.
Аглая, вы помните стихотворение «О, как на склоне наших лет (или дней?) светлей (или теплей?!) мы любим и суеверней»? Нет, это не я написал. Это написал поэт Верник. Обязательно с ним познакомлю, как случай ему подвернется. Я написал другое стихотворение, боюсь, что в вашу честь, – «На свете счастья нет, а есть покой и денег». А скажите, вот этот гребень на голове – это настоящая шерсть или он накладной? Я так и думал. Нет, ни в коем случае. Я не гримасничаю, это я так улыбаюсь. Что значит, «не по погоде шелестишь, целлофан?!» Нет, что вы, Аглая, я им лев патуах? Кама зман я б'арец? Я здесь родился. Жил, умер и был похоронен в один день, долго и счастливо… Что вам заказать, Аглая? 250 грамм, рома? В смысле – «Миша»? Ах, в смысле – «Рома»? Внутрь? Однако. И вот так вот, пивком запьете? Отполируете? Простите, а почему я «борзею»? Я совсем не «борзею», я изумляюсь вашей емкости, мадмуазель. У меня глаз красивый? Особенно правый? Нет, я не могу его вынуть, он приделанный.
Здравствуйте. Алекс. Послушайте, но ведь я все выплатил. С процентами, с полутора тысячью процентов! Аглаюшка, этот господин не понимает слова «урыть», он ростовщик. «Попишу» – в каком смысле? Какой «мойкой»? Этой? Аглая, милая, уберите лезвие на место. Алекс, вы забыли портмоне. Нет, не стоит благодарности, не за что. Да, я всегда с ней хожу, я ее люблю, мы поженились. Где вас искать? Нигде? Аглая, он не понимает слова (вычеркнуто цензурой), он из Туниса. Ах, вы понимаете это слово? Ну что вы, Алекс, зачем же за нас платить? Каждый платит свое.
Деточка, но это уже четвертая порция. Девятая? Еще одна – и бай-бай? А вот это я вам, Глаша, обещаю, в дискотеку я не пойду. Что значит «как миленький»?! Я обожаю музыку, но не настолько. И никакой не «облом», а просто я подзабросил скрипку, плохо удается тридцать второе фуэте, нет в нем прежнего огня и совершенства. А вы идите, голубушка, потанцуйте. На посошок?
Марина, налейте ей, пожалуйста, дизельного топлива и вручите соломинку.
Безусловно, «забирает»,Аглаюшка, еще как забирает. Не вздумай прикуривать!!! Ах, это марихуана? Тогда ладно. Ах, вы раздумали иа дискотеку? Да, конечно, я помню это стихотворение «миллион алых роз». Его написал Бодлер. Верлену. Под сильным Малларме. Сам я не пою, не в голосе. О да, мне доводилось петь, но сразу прибегают и спрашивают, что случилось. А профиль у меня клевый, это да! Этот, правый, вполне узнаваем. Конечно, я вас, тебя люблю. Здесь?!! Глашенька?!! Хорошо-хорошо, я буду называть тебя «моя единственная». И – «моя крошка». Как ты любишь…
Марина, не волнуйтесь, я по ошибке выпал из Аглаиного (или аглаенного) стакана. Из аглашенного. Не надо маген давид, я двужильный, фронтовик.
Аглая, куда ты меня несешь? Бен-Гилель, восемь, квартира восемь. Стучать два раза, но меня нет дома. Конечно, моя радость, ты права, посуду помыть давно пора... Сколько раз тебе повторять – две! ты понимаешь? – две ложки сахара.
Ипохондрия, меланхолия, грусть – гони меня из дома. В непогожий шаббатный вечерок, плавно соскальзывающий в ночь и тьму.
ЭТО Я, ЭДИЧКА...
«Литература находится там, где я нахожусь», – сказал один знаменитый эмигрантский писатель, ныне глубокопокойный.
«Государство – это я!» – пошутил один король-Солнце.
«Это я, Господи!» – написал один писатель.
«Это я – Эдичка!» – добавил другой один писатель.
Все они дали маху. Как один. Литература находится там, где нахожусь я!
Государство, пусть небольшое, но агрессивное, зато тоже я, судя по тому, как я функционирую – одни. Одни, всегда один...
– Господи, это я – Эдичка, – сказал я, – я тебя слушаю... У меня всегда такой прононс в девять утра, если лег в шесть. Говорить – могу... Не люблю только очень в это время суток. Кто это подходил к телефону? Ума не приложу. Сейчас совершу легкий поворот головы вправо и посмотрю, кто бы это мог быть... Подожди у телефона... Тебя как зовут? Аглая?.. Можно просто Глаша? Аглаша... а ты... вы, то-есть, м-да... давно ты здесь, деточка?.. Что ты говоришь?!! Что я тебе обещал? Не обещал, а завещал? Хорошо, разберемся. Дай договорить с главным редактором.
Эдичка, это Глаша. Аглая, говорю, взяла трубку. Ты думал – мужчина? Я тоже так сперва подумал. (Глашенька, сделай мне кофе.)
Да, Эдуард Самолыч, я обязательно напишу статью о переговорах Клинтона с Брежневым. Т.е. с Горбачевым. С каким Ельциным? Откуда я знаю, какой у вас год? (Аглая, какой сегодня год?) Эдик, она тоже не знает, забыла, совсем потеряла счет дням... (Какой годик, Глашенька? Восемнадцатый пошел?) Эдик, пошел восемнадцатый. Уже, грозовой. Кто сбрендил? На себя посмотри!.. А я вот не могу посмотреть на себя, чисто по техническим причинам... А меня думаешь – не тошнит? И Аглаю. Глаша, тебя тошнит? Эдик, нас еще не тошнит. Мало чего было не надо делать, правда, Глашенька? Эдик, Аглая говорит, что наоборот, надо было делать, а не сразу отрубаться. Глаша, звонят, открой дверь.
Эдуард Самолыч, я все понял, напишу статью. Конечно, запомнил: Клинтон и Жириновский. Что значит еще не, когда уже да. Всего доброго.
Глаша, почему «он там лежит»?
Какой хасид? С кружкой для пожертвований? Ты просто открыла, а он сразу лег? На лестничной площадке? А ты пробовала одеться, прежде чем открыть дверь?
Алло, да это я... Доченька, ну ты же знаешь, что надо спросить у папы, прежде чем выходить замуж в пятнадцать лет. Требуется согласие родителей. Я понимаю, что твой мальчик сирота, но ты-то все еще нет. Ах, мама сказала, что ей плохо и чтоб я решал? А ты передай маме, что мне тоже плохо... Что, ты сказала, у вас будет?!! Подожди, я должен лечь. Хотя я и так лежу. Что у вас будет? Мотоцикл. Ух... Вы с Моти ждете мотоцикла... Хорошо, я дам тебе с Моти денег на мороженое. Откуда ты говоришь? «Шик Париз»? Что «Шик Париз»? Шик, говоришь, а не Париж? Доченька, не пей кровь, лучше скажи папе всю правду, но постепенно. Откуда ты говоришь? Из Парижа?!! С бульвара Сан Мишель? А как ты туда...? На тремпах? Дочь! Немедленно, ты слышишь? – не-мед-лен-но домой. Вернись, я все прощу.
Что, Машенька? То есть – прости – Глашенька. Кто там на лестнице лежит? Про хасида ты мне уже рассказывала, а врач почему лежит? Понял. Ты оказывала ребе первую помощь. Понял. Рот-в-рот. Понял. Пришел врач. Понял. И тоже слег. Понял. Да оденься ты наконец! Вон бюстгальтер валяется. Что? Это не твой? Нет, и не мой. И сделай мне наконец кофе.
Алло! Да. Я Генделев. Почему я сионистская морда? Я вас сюда заманил, а вы и клюнули? И супругу тоже? Что делать? Вот я и думаю, что с вами делать. Мало меня немцы расстреливали? А на мой взгляд, даже много. А откуда вы, собственно, говорите? Из Петербурга? И звоните коллект? Петербург, штат Миссисипи? Всего вам доброго. Целую. Бе шана абаа бе Йерушалайм.
Алло. Конечно, узнал. Вася? Как же, помню. Ты меня еще бил в печень на перемене. Ну и как там наши? Что ты говоришь?! Коля в Ашдоде. Петя в Афуле, Ванек в Нацрат-Элите? А Оксана в Бней-Браке? Вместе с Дарьей? Всегда была хохотунья. Весь класс, весь класс!!! А кто остался-то? Давид, Изя и Йоська... Что пишут? Жалуются? На антисемитизм? Вы с Ваней им гумпомощь-то посылаете? Йоська иеродиаконом работает? Обещают повышение? Оттого и не едет? Всегда был шлимазл. Ну пока. И тебя – с Рождеством.
Алло. Я и говорю громче. Еще громче не могу (Аглая, ты же слышишь, стучат, открой дверь!) Не могу я громче, не хватает децибел. Я не обзываюсь. Да, это я написал. Что вы имеете в виду под словом «насрали в душу»? Всему советскому еврейству? Героическому? (Глашенька, открой дяде-полицейскому дверь. И оденься наконец, дядя нервничает.) Подождите у телефона, у меня в доме полиция. Давно этого ждали? Тоже мне, Нострадамус.
Сейчас, господин полицейский, я встану и оденусь. Но обычно я не надеваю с утра наручники. Что за тело? У Аглаи? Очень клевое. Ах, не у Аглаи (Глаша, не смей одеваться, не видишь, господин полицейский интересуются...)! А? В гостиной? На ковре? Глашенька, где у меня гостиная? Действительно, а что это за тело?! А! господин полицейский, это поэт. Ему негде жить. Он – юное дарование. Вставай, дарование! Глаша, стучат, открой дверь и сделай мне наконец кофе! И господину полицейскому, он не псих, он просто плохо адаптируется к обстановке. Не смущайся полицейского, малыш, лучше почитай ему стихи, которые я написал. Нет, это у него не пена, не бойтесь, господин полицейский, он просто мой ученик... Читай, Дема, читай, не обращай внимания... Здравствуйте, вы из Хеврат Хашмаль? Отключать свет? Пока познакомьтесь: это Аглая, зовите ее Глаша, это господин полицейский, этот – надежда нашей поэзии (ничего, что он в пене?). Глаша, поднеси трубку к уху, я не могу – наручники мешают, а я тут не договорил с одним господином.
Да, вы все еще на проводе? Я не говорил, что вы педераст. Я говорил, что вы как Нострадамус! Это не одно и то же. Так в чью душу я того?.. Что вы мне оторвете? Спасибо, хорошо, что напомнили. (Аглая, приготовь завтрак, яйца в холодильнике.) Всего вам наилучшего!
Глаша, положи трубку на рычаг. Аглая, это – не трубка... Господин полицейский, ну что вы, что вы? Так стихи растрогали? Дема, не отвлекайся, продолжай и будь поискренней в подвыве. Глаша, посвети электрику, ему будет удобнее отключать. Откуда я знаю, где у меня эти штучки? Посмотри в заднем кармане брюк. Что это за фокусы – «а вдруг залечу»! Ну, залетишь – Хеврат Хашмаль будет платить алименты, зато электричество не обрежут. Будет девочка, назовем «Электра». Мальчик? Действительно, а если мальчик? Правильно, Дема, читай. Дема, не отвлекайся, видишь, у господина полицейского слезы выступили. Господин полицейский, не убегайте, не сняв наручников. Как на память?! Я не хочу на память. Спасибо, Дема. А теперь перекуси наручник, мне работать надо. Ну что, Глаша, электрик доволен? Не только не отключил, но даже подключил? И чайник будет электрический? И простыня электрическая? И стул?
Алло! Да, Эдик, это я. Еще как пишу статью. Про Гамсахурдиа, какой Клинтон! Кто такой Клинтон?! Откуда я знаю, как у него с Ельциным? Вот напишу статью и узнаю. Чао.
Алло? Шалом. Да, бывший поэт Генделев – это я.
Вы хотите мне прочитать поэму? (Глаша, накинь что-нибудь на себя, смотреть холодно. И где мой утренний кофе?) Сейчас подойдет к телефону Дема и прочитает вам свой эпос. Трубку не бро-са... Глаша, открой дверь, стучат. Что соседке надо? Почему лестничная клетка завалена? А почему она завалена? Они мешают? Хасид мешает? И врач мешает? И что, полицейский тоже начал мешать ей проходить? Аглая, пойди убери лестничную площадку.
Алло! Какая Маша? Кто – Маша? Ты – Маша? Хорошо, я – Миша. И немедленно перестань рыдать. Я обещал на тебе жениться? На тебе? На Маше? А кто такая Маша? Ах, ты – Маша? Очень приятно, а я Миша. И в каких выражениях? (Глаша, не подслушивай, лучше свари мне утренний кофе.) Под хупу? Я не люблю под хупу, значит, это был не я. Глаза? У меня одни голубой, другой – зеленый, третий... Легкая инвалидность: нет ног. Одной – немножко есть. Ноги. Передвигаюсь? Носят на руках. Поклонники. Из спальни в туалет, из туалета в спальню. И отнялся дар речи. Как это кто с тобой говорит? Сиделка с тобой говорит. По моему поручению. Ты все равно меня любишь? До гроба? Приходи со своим. Завтра к одиннадцати.
Алло! Да, слушаю, Эдичка. Я уже заканчиваю статью. Очень аналитическая. Горбачев как живой. И Буш... Клинтон? Какой Клинтон? Не ругайся, они подумают, что ты на зоне воспитывался. Хорошо, хорошо, не надо меня опускать, будет тебе Клинтон. И тебе – всего доброго.
Глаша, немедленно положи Дему на место. Как это – «хоть шерсти клок»? Нет, это он не от страсти глаза закрывает! Робкое дыханье? Да это Чейн-Стокс! Дема, Дема, не покидай этот мир, ты еще не все в нем совершил! Вот видишь, Аглая, ты его отпустила, и он уже розовеет. Не опустила, а отпустила, что вы тут все – с ума посходили? Иди открой дверь, стучат.
Вы описывать имущество? Очень приятно. Глашенька, тебе, по-моему, жарко. Вот опишите, пожалуйста, модель гильотины. Действующая, в натуральную величину. Хотите – сами. хотите – с моей ассистенткой. Глаша, тут интересуются…
Описывайте, описывайте... Bсе мое – музей-квартира поэта: поэтический стол, поэтический стул, чучело. Чучело Демы, подлинник. Это антикварная рукопись неоконченного: видите – начата, а какой слой патины.... Это венок. Лавр. Рентгеновский снимок черепа музы. Шкуры моих жен, почти не побитые. Здесь у меня раньше был источник Ипокренпы, все недосуг позвать инсталятора. Простите, я отвлекусь – зовут к телефону.
Алло. Клинтон? Какой Клинтон? Не знаю никаких Клинтонов, у меня имущество описывают. Ну, Клинтон? Билл? Да, Билл, я слушаю, только покороче. Я занят, пишу статью про Гамсахурдиа. Про тебя писать? Что вдруг? Билл, я человек подневольный, мне чего босс писать наказал, я то и пишу... Так что ты не обижайся, чувак, и Боре скажи, чтоб не дулся. А я – про Гамсахурдиа. Эдичка распорядился... Если что – звони.
...А вы что встали? Сказано вам описать дом поэта – описывайте. Описывайте! Вот – видите, отрезанный – ломоть? Это – язык. Русский, правдивый и могучий. А вот там в углу – тапочки: котурны. А вот магический треножник. Глаша, сдуй пыль и зажги под треножником газ. А вот там под потолком висит – обратите внимание – это судьба поэта. А это – трис. Не хихикай, Глашечка. Эх, какой трис пропадает. Это лютня, да оборвали гады серебряные струны. Описывайте, описывайте. А меня опять к телефону.
Алло! Да, это я, Эдичка…
АШКАРА, ИЛИ ВЕНОК СОВЕТОВ
– Ну..?
– Ч-ч-чувак. Аш-ш-ш-шкара, ч-ч-чувак!
(«Ашкара» в данном случае переводится как «П-п-плохие новости, ч-ч-чувак!») Она м-м-меня кинула. Сказала, чтоб не з-з-звонил. Чччто мне делать?-?-?-?
Сейчас три часа ночи. Над Иерусалимом стоит полная луна. Звезды блещут. Стрелец в доме Козерога. Мирное население города и предместий, утомленное дневными заботами и трудами, глубоко спит. Не с с-спят, ч-ч-чувак, только ты и теперь, ч-ч-чувак, – я. Дева прошла свой апогей и испытывает легкий параллакс. Я думаю, что лучше всего тебе наложить на себя руки. Тебе – мой совет. Так будет хорошо для всех. Звезды говорят. И я с ними совершенно согласен. Не мешай спать, идолище!!!
Я швырнул трубку, намотал на голову одеяло, предварительно поправил над альковом зонтик на случай неожиданного ливня с намеченным протеканием, и увидел сон. Дивный: мне как раз вручали Нобелевскую премию, но пытались всучить Нобелевскую премию мира, а я не хотел мира, а хотел заслуженную, т. е. – наоборот – за литзаслуги на поприще газеты «Вести», и поэтому наотрез не брал мешок с деньгами – монетками по одному шекелю – мешок лопнул, мы все, как были во фраках, ломанулись их подбирать – а шкандинавы еще и пихались локтями, особенно король Густав Адольф. Я подумал, что мелкие серебряные деньги во сне – это к слезам, хотя, когда видишь во сне каки – это не к деньгам, а как раз к дерьму – я проверял; шекелей насобиралось меньше, чем надо заплатить за телефон, вот он и звенит мерзким голосом.
– Ну?!! Алло! Кто это?!
– Ч ч-чувак. Я не м-м-могу спать.
– А я мог… Хорошо. Что стряслось?
– А я – спать не м м-могу. Она мне сказала, чт-т-тоб я ей не з-з-звонил. Она не любит.
– И ты з-з-звонишь мне? Чтоб я тебя любил? Несколько раз в сутки?! Я тебя завтра поймаю и буду любить. Ты что, не врубаешься в силлогизм: люди – спят. Я – людь. Значит – я сплю. Логика Аристотеля! Чему тебя в школе учили, нелюдь?
– Я шк-к-колу не з-закончил. Ср-р-ра…
– Что «ср-р-ра»?
– …Сразу р-р-репатриировался, ч-ч-чувак.
– И сразу кинулся мешать мне спать?!
– Ч-ч-чувак, я без нее жить не могу. Ашкара, секешь? («Ашхара» в данном случае – «дизастер»). Мне п-плохо, ч-ч-чувак.
– Зато мне – отлично. И – спокойной мне ночи, понял, воздыхатель? Тихий час! Чтоб!
Я лег. Потом полусел. Потом полулег. Потом взял сигарету. Мой злополучный собеседник был влюблен и страдал. Я тоже неоднократно был влюблен и страдал, но это ведь не повод, согласитесь, будить меня, так много пережившего в жизни. М-да. И с удовольствием посмотрел на свободное пустое место рядом с собой на двуспальной кроватке. «Люб-бовь, ч-ч-чувак». М-да. Я сунул окурок в пепельницу и с нежным к себе чувством принялся вспоминать, что мне еще привлекательного осталось пережить на своем веку.
Просмотр по видику научно-фантастических фильмов и содержательных лент про монстров, когда никто не требует вырубить звук в самых леденящих, прямо скажем, – пиковых точках эпизодов, смакование политических сплетен за долгими тихими завтраками наедине со свежей газетой, не пресекамое никем ковыряние в носу, увлекательное чтение увлекательного чтения с сигаретой в местах якобы для этого не предназначенных два часа напролет, не вынесенный мусор, безнаказанное курение в постели, открытый взгляд на телосложение другой самки, кроме законной пары, встречающий ответный прямой и призывный – взгляд со стороны носительницы этого телосложения, шепот, робкое дыхание, пренебрежение интересами очередной родни по жене, ни-ка-ких! – повторяю – ни-ка-ких терзаний ревностью, покупка за бешеные деньги фуляра павлиний – цвета – глаз (или хвост?) в этом вульгарном магазине «Пигаль», долгий и подробный выбор секретаря с испытательным сроком, и чтоб нежна и исполнительна. М-да, пропитый левый гонорар и вот эта, новенькая, в дочери которая годится, как утверждают завистники, она еще так выразительно проходила мимо столика и сама дала номер телефона, телефончик, телефон…
– Алло!!! Ну?! Ашкара?! (в данном случае, «что тебе от меня надо, раз-два-три-четыре!»)
– Ашкара ч-ч-ч-чувак! Я ей позвонил, там никто не берет трубку.
– А кто там, по-твоему, должен брать трубку? Муж ее Вадик? Или свекровь ее, Нина Евграфьевна Стульчакова, экспедитор на пенсии по инвалидности? А??! Или я там должен брать трубку и спрашивать – что ты не спишь, пупсик?!! Ма кара, мой перах в пыли? Она же сама тебе сказала, что отключает телефон…
– Ч-ч-чувак, ты не в-в-в-в-в-в-в…
– Во что я не врубаюсь?! В это время суток во что я не врубаюсь?!
– Я ей не мил. По-моему, мне надо что-нибудь сделать с собой.
– Умоляю. Сделай. Широкий выбор возможностей. Петля, стрихнин, прыг с Хилтона. Отравление выхлопными газами. Рекомендую. Утопление в Мертвом море. Привяжи к себе холодильник – там выталкивающая сила в связи с соленостью, так что противопоставь ей «Амкор». Или женись на ней, своей лилипуточке. Возьми ее в брачный союз с собой, навеки вместе с Вадиком, тремя ее сугубо смежными детьми от предыдущих кретинов и свекровью-экспедитором Н. Е. Стульчаковой с нелегкой инвалидностью полной потери слуха у старой кочерги. Или ложись под поезд ветки Хайфа-Нагария, только оденься потеплее – простынешь в связи с редким расписанием. Иди сейчас и ложись, как Анна (Хана) Аркадьевна Каренина, зихрона ле враха! Иммидитли! На выход с вещами!
– Ч-ч-чувак, ты не п-п-понял. Мне надо что-то с собой сделать, например, сменить гардероб.
– ..?!
– Ну д-д-да. Мне – не идет старый.
– ..?!
– Мне не идет этот, помнишь, п-п-пиджак желтый, верблюжьей шерсти, со шлицами. Надо купить новый. Я ей не нравлюсь, ч-ч-чувак.
– Так. Лучший способ ей понравиться, мыслитель хренов, это не себе, а ей сменить гардероб. Купи ей манто. Чао, спиноза.
Спать мне решительно расхотелось. Отомщу! – подумал я вслух. Страшно отомщу! Ты у меня еще заплачешь, Ромео! И набрал его номер телефона. Коварно улыбаясь.
– Ашкара! – сказал я зловеще. – Я не могу спать, чувак!!!
– Хорошо, что ты позвонил, ччччувак. А то я как раз собирался тебе звонить.
– Пол-четвертого ночи, – добавил я жалобно. (Месть не вытанцовывалась.)
– Вот я и г-г-говорю. Где я в пол-четвертого ночи куплю ей манто?
Трубка выпала из моих слабнущих, слабеющих, ослабелых пальцев и покатилась по ковру. Я как был – на четвереньках – полез за трубкой, нахлопывая ее по заикающемуся писку, и успел как раз вовремя, на конец фразы… «Не л-л-любит, ч-ч-чувак!»
– А миспар ше-элав игата эйнейну ни фига, – выговорил я железным голосом и отключил телефон.
Сладко потянулся, мысленно одобрив свою сообразительность. «Любовь, – подумал я, – любовь тра-та-та нас чарует, законов всех она сильней».
В принципе – любовь, подумал я, штука пренеприятнейшая. Резво глупеешь, теряешь чувство пропорции, перспективы и золотого сечения. Расстраивается сон, куда-то пропадает прекрасный аппетит, резко ухудшается и без того отвратительное финансовое положение. Эти бесконечные расходы: цветы, как я вспоминаю – она любила «тигровые лилии» в цвет ее волос на просвет сквозь пламя свечи и в честь ее склонностей и повадок царапаться в постели в самые патетические моменты, а духи, да какие к бесу духи? Сам запах ее любви был тонок и упоителен! А эта вдруг проходящая по краю, как бы – за окантовкой взгляда – спокойного, даже слегка сонного – эта сумасшедшинка, вдруг навертывающееся эдакое психологическое косоглазие, мгновенное и волнующее – до медленного, замедленною, оглушительного в своей беззвучности взрыва желания... Когда лоб припадает к сгибу локтя и пронзительный – вдоль позвоночника – протянутый шнур молнии – огненный оранжево-бело-синий звонок, звонок… Звонок. В дверь, без пяти пять утра. Умом – непостижимо. Пожар?!! Какой пожар? В пять утра, мастер слова, пожаров не бывает. Господи! Только бы не самое страшное что-нибудь! Интересно, почему штаны не налезают? Я что, за ночь опух?! Ашкара! (в данном случае «абзац»!) Тьфу!!! Не надо просовывать в штанину ногу, на которую надето два тапочка на одну ногу! А может, это полиция?! А может быть, меня нет дома? А звонок звенит-заливается!
– Ну?!
– Ашкара, ч-ч-чувак. У тебя ч-ч-что-то с телефоном. А я с-с-с-совершенно не м-м-м…
– м-м-м-м…!!!
– м-м-м-м-м…
– м-м-м… к!!! Во-во-во…
– Воды?
– во-во-во..
– Водки? Ра-ра-новато, пожалуй.
– вo-вo-вo-вo! Вон!!!
– Где?
– Не «где», а откуда.
– А откуда?
– Отсюда! Ты совершенно сбрендил, Ромео?!
– Ч-ч-что ты г-г-г-г…
– Сым ты «г»!
– г-г-горячишься, ч-ч-чувак? Я еле такси нашел в такую рань. Полпути бежал как ок-к-к…
– Окрыленный? Лети обратно.
– Ты н-н-не понимаешь, ч-ч-чувак. Она меня не любит.
– Подумаешь, невидаль! Она и меня, вероятно, не любит. И еще многих не любит. И правильно делает. Особенно с утра. Рано как-то для любви. Люди спят. А ты тут заикаешься.
– П-п-одумаешь, заикаюсь. М-м-маленький фи-фи-фи…
– …зический недостаток? А может, ей надоедает ждать, когда ты закончишь при-при-придаточное предложение руки и сердца?
– Т-т-ты думаешь?
– Больше чем уверен. Иди тренируйся, демосфен.
– Ма-ма-маисей тоже заикался.
– Вот-вот. И поэтому привел мой народ в страну, где по утрам будят п-п-п-п…
– Психи? Ты хочешь с-с-сказать, что это из-за-за-за-за-за-за…
– …икания? Ашкара! (В данном случае – «я все сказал»). А я пошел спать.
И я пошел спать. Снилось мне всякое безобразие с участием длинноногой логопедши. Мы разучивали с ней слово «рекогносцировка». Он вломился ко мне без предупреждения, могучие плечи его поверх желтого верблюжьей шерсти пиджачка окутывало нечто попадающее под определение манто.
– Ну?!..
– Знаешь, чувак, – сказал мне, очень гармонично сопрягая трудные случаи столкновения согласных звуков, вчерашний мой неоднократный собеседник. – Знаешь, чувак? Замечательно получилось. Я ей позвонил и все высказал. Она будет моею. С меня причитается!
– Исполать! А как тебе это удалось?
Мой собеседник покраснел.
– Ну, так уж тебе все и расскажи.
– Да нет, я не про ваши амуры. Как тебе удалось перестать заикаться?
Он посмотрел на меня ошарашенно.
– А я разве не?.. Действительно. Ашкара?!
А прошлой ночью меня сорвал с постели телефонный звонок.
– Ну?! – прорычал я.
– Ч-ч-чувак! Ашкара, ч-ч-чувак. – Рыдающий девичий голосок в трубке был смутно знаком. Боже мой, это же его лилипутка, предмет воздыханий полуночного Ромео… – Ч-ч-ч-чувак! Он м-м-м-м-меня кинул. Сказал, чтоб не з-з-звонила… Ч-ч-что мне делать?-?-?-?...
БИП
Завел я себе «мазкиру электронит». Автоответчицу. Ненадувную. Для сопровождения. С мерзким (как это всегда бывает, когда прослушиваешь собственный, незнакомый с детства голосок с магнитозаписи) текстом на иностранном языке: «Шалом, меня нет дома, плиз лив ё мессидж ахарей ха-цифцуф»...
Соответственно, появилось у меня в обиходе занятие: взбежишь по лесенке в свой музей- мансарду и, вместо того, чтобы сразу пить сердечное, пьешь капельки уже отдувшись – никакого учащенного дыхания и пульс пропадает, едва прослушаешь записи «ахарей ха-цифцуф».
Вообще большинство людей балдеет от предложения говорить после сигнала и несет что ни попадя, мнется и ощутимо краснеет.
Или хамеет, от безответности.
Или слова не может выдавить в простоте, все слова иа цыпочках.
Особенно идиотски слышится кокетство с электронным механизмом. «Угадай, кто звонит?! А?..» Квакает с обертонами завлекательности: «Это я! Тетя твоя Дора»…
(Тетю Дору а не видел лет сорок и совсем не истосковался.) Бип-бип-бип...
Или!
Или: «Бип. Мишка-Мишок, ну наконец-то я до тебя дозвонилась. У нас будет маленький...» Бип-бип-бип.
(Бип!!! У кого – «нас»? Какой «маленький»? И ты, летка-енка, ты – кто? Как тебя зовут? И какое счастье материнства я должен с ликованьем разделить с тобой, юная мать?!!)
«Бип! Генделев! Хотел вернуть тебе долг. Жаль – не застал. По случаю уехал в Южную Африку. Твой Дема». Бип.
(Вот именно: бип...)
«Папуля! не забудь! На день рождения я хочу косуху. Дочь». Бип.
(Зевес-Вседержитель! Что такое «косуха»? И сколько она стоит?..)
«Бип. Шрага? Ма иньяним?» Бип. (Сам ты «Шрага»!)
«Бип! Алле! Адон Генделев? Ты – ....ь!» Бип.
(……й……….!)
«Бип. Г-г-г-Генделев. Ч-ч-чувак, к-к-как ты дддумаешь, к-кто я? Бип».
(Б-б-ббнп?..)
Бип: «Папа!!! Я уже купила косуху. Целую. Дочь». Бип.
(Что такое косуха? Что такое косой – знаю, косяк – знаю. Но косуха? Только бы не самое страшное!..)
Бип: «Ати носи? Саку кен сан? Гендерев – ре такуки мадо? Асны! Акч!» Бип.
(Действительно, саку-кен-сан! Акч! Беда-то какая.)
Бип. «Шрага! Кусохтак! Ма иньяним?»
(Ред ми мени!)
Бип. «Генделев? Это опять Дема. Опять хотел вернуть тебе долг, старик, да незадача: срочно вызывают в Нюрнберг». Бип. (Ну, если в Нюрнберг, тогда конечно...)
Бип. «Мишенька, это я, Аглая. Я хорошо себя веду, и надзиратель сказал, что меня скоро выпустят на шабес, а может быть, н вообще срок скостят. Увидимся в пятницу, не скучай. Бип».
(В пятницу у меня кремация. Бип. А то я что – я всегда, милая...)
Бип. «Господин Генделев. С вами говорят из редакции. Как пишется слово «нудник» – с одним «эн» или двумя?» Бип.
(Слово «нудник» пишется: «Зяма», «Аглая», «Натан», «Ульяна», «Дема», «Аарон»! Особенно по-русски.)
Бип. «Шрага?!! Ма иньяннм, маньяк! Лахит». Бип.
(Я, конечно, вполне иньяним, только я не Шрага.)
Бип. «Папа. Я забыла, говорила я тебе или нет, но косуха стоила 200 шекелей. Так я выписала твой чек без покрытия. Целую. Дочь». Бип.
(Ох. генетика. Кровинушка родная, голубая. Из носу. Но что такое косуха?)
Бип. «Это вы давали объявление: “Куплю за недорого фурфычку в хорошем состоянии”? Есть фурфычка на продажу. Синяя. Вторые руки. Компания MNJ...» Бип.
(Хватились! Объявление дал с год назад, дом полон фурфычек – повернуться негде. Гости намедни приходили – садить некуда. Зеев Бар-Селла даже сидел на фурфычке, помял ее всю и сам измаялся...)
Бип. «Товарищ Генделев! Ты …..ж!» Бип.
(....ж?)
Бип. «Шрага? Ма иньяним?!!» Бип.
(Ох, найду я тебя, Шрага, мало не покажется!)
Бип. «Здравствуйте. Здесь живет поэт М. Генделев-Хермонский? Я хочу прочесть вам свое последнее стихотворение “Хамсин”:
“Себя превозмоги!
Омой лицо огнем
Суровые пурги...”
Бип.
(Чик-чак-превозмогнем... Где они достают мой телефон?)
Бип. «Генделев! Говорю из Гааги. Срочно пришлось вылететь. А то опять обязательно б забежал вернуть долг».
Бип. «Папа! Косуха жмет, и молнии хиляют. Пошла менять». Бип.
(Смотри, доченька, чтобы бракованную не подсунули...)
Бип. «Генделев! Ма иньяним. Передай Шраге, что сисма теперь: “Парпарим нехмадим”. Бип». Бай.
Бип. «Мишка! Мешок? С каких это пор ты стал такой не нежный? Что значит “предохраняться надо”? Как это: я “неразборчива в связях“? И почему эта стерва разговаривает со мной в таком тоне?!!» Бип!!!
(Уф! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить...)
Бип. «Генделев. Даю слово. Завтра же верну деньги. А рекэтиров нанимать нехорошо, они дерутся... Говорю… Из Афулы. Ладно, я уже еду, еду... Лечу... Не смейте ко мне прикасаться...» Бип.
(Ого! Кто это его, интересно?)
Бип. «Папа! Я больше не буду. Я обешала этой тете... Даю честное-пречестное... И косуха мне не идет... Тетя сказала, их уже не носят...» Бип.
(Чудо, чудо!)
Бип. «Товарищ Генделев. От себя лично и отимени всего коллектива нашего матнаса... В общем, так держать!» Бип.
Бип. «Генделев? Ма нньяним? Шрага медабер. Кибалта ходаа? Хиванти: “Парпарим нехмадим”. Тода раба леха ве дришат шалом ле геверет...» Бип.
(...???)
Бип. «Атноси? Саку кен сан! Гендерев ре такуки. Мадо! Се иоки, мазки-ра эректронит-сан. Банзай!» Бип.
(..????)
Бип. «Мишенька! Это Аглая... Я не приеду и пятницу И вообще никогда не приеду. Как ты мог? И скажи ей, чтоб сама вышивала гладью! И делала мережку. Я вот выйду на волю, – попишу, как пить дать, попишу... Гладью вышивать?! У-у-у!..» Бип.
(???!!)
Бип. «Господин Генделев. С вами говорят из редакции. Приносим извинение: слово «гуано» – вы безусловно правы – пишется без буквы “вэ”. И голос девушки приятный... Совет вам да любовь. Группа товарищей». Бип.
(...!)
Бип. «Господин поэт Михаил Генделев-Хермонский! Спасибо вам за исчерпывающую литературную консультацию и телефон вашего коллеги тов. Гарнизон, которой я с удовлетворением прочел наизусть свои книги стихотворений». Бип.
(...!....)
Бип. «Ч-ч-чувак! Пе-пе-пе-передразнивать-то зачем, ч-ч-чувак?» Бип.
(?..-!)
Бип. «Тетя Дора говорит. Спасибо за собрание сочинений Пикуля. Читаю, не могу оторваться. В гости не смогу нагрянуть. Извини…» Бип.
(!!!!)
Бип. «Алле! Говорят из фирмы MNJ. Готовы приобрести весь наличный запас фурфычек, невзирая на состояние подшерстка, пробег и прямоту жуйстера. Платим наличными. Самовывоз...» Бип-бип-бип.
(…)
...В общем – что тут долго рассказывать. Деловита. Опрятна. Исполнительна. Никогда ничего не упустит. Рубашки всегда накрахмалены, в доме порядок. С кредиторами как-то утрясает м... мда... легкие недоразумения. В личное время совершенствуется в японском – а что? Тихое, интеллигентное занятие. Ровный, спокойный у нее характер и все 30-31 день в месяц. Одно скверно: ревнива. С дамами разговаривает ледяным голосом, а их сообщения забывает якобы передать... А если засиживаюсь где-нибудь допоздна или вообще остаюсь ночевать у товарища – беда: стоит на столике, гудит и красными глазками мигает. Вот к чему я привыкнуть не могу! Особенно – к красным глазкам, их у нее три: auto answer, listen и in use.
Я тут умом пораскинул и так рассудил: женюсь только в самом крайнем случае.
И потом – эти сложности с рабанутом...
Она у меня еще и не еврейка.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ
Пришел ко мне мой приятель. С редкой фамилией – Автобусов. Мой приятель – господин строгих правил этикета. Он считает и проводит с непреклонностью в жизнь следующие установки:
джентльмен должен смывать любое оскорбление достоинства кровью;
джентльмен никогда не должен работать и
джентльмен всегда должен быть женат.
Поэтому – на то, что в питу недоложили баклажан, следует немедленное:
вызов-картель, а при отсутствии секундантов у чайханщика – так и сразу по чавке;
поэтому же – друг мой беден, как синагогальный ахбар,
и – поэтому же – Автобусов все время женится, причем все время на разных и весьма симпатичных мне особах;
Не пьет, не курит, обливается, мистик.
Любит про тайное и сакральненькое.
Одевается Автобусов строго, но справедливо: в теплое время года – майка, бермуды, шляпа фасончика «дуремар» – все штучное, уникальное и в 1-м комплекте.
Зимой – строгий джинсовый прикид и водолазные ботинки.
Попытка подарить ему шарфик-кашне не увенчалась. «Пестрит», – сказал Автобусов мокрый и иззябший и вернулся в разгул субтропического декабря.
Из всего вышеизложенного вы уже догадались, что Автобусов – неординарное создание Господне и Создатель, разглядывая Автобусова, явно наслаждался разнообразием своих безграничных возможностей реализации подсознательных комплексов. И было это в день седьмой, и взгляд Его – отдыхал.
При всем при том Автобусов – человек чести и отличный товарищ. Он первый и единственный откликнулся на беду, постигшую мой дом – мою крепость.
Некто, чье имя мне неведомо и по сей день, вероятно сводя со мной счеты, повадился (я все-таки полагаю, может быть и опрометчиво, что это был «он» – маскулин, а не «она» – фемина...) какать мне под дверь. Причем вполне регулярно – с 1 января 1994 года – осуществляя этот акт мщения поэту в час между волком и собакой, когда весь мир спит, и – большими экземплярами. Почти нечеловеческого размера.
Поначалу я раздраженно помыслил о пришельцах, потом, кривя нос, убирал фекалии и, оправдываясь перед соседями, предположил существование некого йеху, самца, на чью самку я посягнул в припадке беспамятства, потом, естественно, подумал о благодарном читателе.
Конечно, в пользу инопланетян говорил, вернее, свидетельствовал размер и объем экскремента и неземные – регулярность и точность наклания. Но странным представлялся выбор средств дать о себе знать нашему земному разуму осуществовании разума внеземного. Хотя, с другой стороны, что мы – в глазах Галактики?
Против того, что куча – деянье самца йеху, выдвигались – на аргументы остроумия задумки и вонючести выполнения – два контраргумента: поразительная неленивость засери (взбираться бессонно на головокружительную высоту моей мансарды, стараясь не сопеть и, давя отдышку, – дефецировать...). И – беззаветная храбрость, отвага, избыточная даже для побочного лепестка ветви эволюции.
Тем паче – чужих жен я в последнее время не сводил, да и ну их вообще... Хлопотно, да и годы наши не те.
Прочие же мотивы, как-то:
финансовая задолженность в смысле денег;
аналогичные действия со стороны вашего покорного слуги, давшие, повод к адекватному ответу реакцией;
нелестная рецензия – предполагали все-таки какое-то знакомство с мстителем, а приручение йеху среди моих собеседников, врагов и корреспондентов не практикуется.
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», – напевал я, ликвидируя и манипулируя баллоном дезодоранта.
«Русские!» – уверенно проговорил мой сосед по лестничной клетке, чей дедуля ходил до витру за бархан ближайшей Сахары.
Я, признаться, обиделся: тоже мне диагност! И чуть не пустился в апологию русского еврейства, со ссылками на стопроцентную грамотность выходцев из СНГ и традицию гуманизма Великой Русской Литературы – от оды «Вольность» до «Мойдодыра».
Я чуть было не помянул подвиг Гастелло, процесс Кузнецова над Щаранским, про ИЛК и иудео-христианство... но одернул себя – не помянул, не поделился и не коснулся. Мне это показалось неуместным, учитывая род моих занятий в данный критический момент, а также то обстоятельство, что большинство моих читателей в Израиле (а я полагаю, что облегчался не турист) наслаждалось моими высокохудожественными произведениями отнюдь не в переводе на иврит. Так что крыть было нечем, Бузагло был прав дедуктивно, и я, закусив, губу, продолжал придавать лестничному пролету несвойственный ему аромат «лесной фиалки».
«Русские!» – сказал еще уверенней мой сосед. И безнаказанно ушел. Я продолжил опыление, за каким занятием меня и застал Автобусов...
Сначала он безудержно развеселился и выдвинул ряд небанальных гипотез о происхождении как. Невзирая на тонкие ходы – я опровергал и отвергал его кандидатуры: кандидатуру домашнего, специально на это вышколенного животного-злодея (помилуйте! Ну – не слон же?); кандидатуру фаната-поклонника, каковой потерял власть над собой в преддверье святыни-усыпальницы меня, своего кумира (ага! И не единоразово терял власть над собой...); кандидатуру самого себя, т.е. меня – оставившего личный кал под собственной дверью то ли в пароксизме лунатизма, то ли из честолюбия (мол, не забывают меня читатели, не обделяют вниманием!), то ли ради сюжета. Себе я доверяю и навет отверг, хоть идея лунатизма мне и приглянулась.
И все же, по-детски оторжав свое и утерев слезы, Автобусов – как человек чести и хороший товарищ – предложил свои услуги на предмет искоренения зла.
Изощренный его ум не находил себе достойного места в небольшом черепе Автобусова и рвался наружу, кипя и булькая многочисленными проектами, как – если не разбогатеть, то хотя бы не работать. И – надо отдать ему и его уму должное – несмотря на запредельную придурковатость его прожектов (в диапазоне от продажи мертвой воды соответствующего моря интересующимся Иван-Царевичам, расчета и исследования с помощью гематрии текста «Золотого ключика» – Буратино – Йегошуа, Карабас-Барабас – Ирод Великий, Артемон – Йегуда и т.д. – до положения на музыку сур Корана), – они – прожекты – его подкармливали. Хотя и плохо. Но кабальеро Автобусов был горд и неприхотлив, так что ума хватало, а когда незлостные его аферы лопались радужными брызгами, – он горевать себе не позволял и разрабатывал новый проект разбогатения послезавтра. Посему, а также по полной растерянности моей душевной, вкупе с угнетенностью своей психики, – я внял стоическим планам покарания злоумышленника, мультипликационно воспроизводимым умом и разумом моего сообразительного друга.
Очевидная стратегическая цель – застигнуть гада in flagranti и покарать назидательной укоризной – требовала тактической разработки. В качестве орудия укоризны Автобусов предложил: ручную собаку – злобного волкодава одной своей знакомой. Она была и моей знакомой – поэтому, представив себе, какой у нее, соответственно, должен быть бобик-волкодав, я молниеносно отказался. Опыт встречи с волкодавом у моего порога привел бы любого моего гостя к означенному эффекту, а убирать мне надоело. Далее – второй проект Автобусова: капкан или, как варианты, – волчья яма, падающее бревно, противопехотная мина, – отпадали, потому что я сразу представил кого-нибудь из своих знакомых-шатунов-полуночников, имеющих обыкновение навещать меня по ночам с иной, нежели отложить помет, целью, представил подорвавшегося на мине поэта Дему с оторванной ногой или Носика из волчьей ямы, не говоря уж об Аглае под бревном. Оно, конечно, пустяки, но ведь и сам я мог в возвышенном настроении вернуться домой и по задумчивости не разминировать лестничную площадку. А ведь порой ко мне наведываются без предупреждения и приличные люди и даже должностные лица: полиция, например, редактор, например, главный редактор, товарищи по оружию, например. И совсем не обязательно подозревать их в злом умысле и подвергать невинных, в сущности, людей риску. Так что механические меры пресечения мы отклонили. Несмотря на энтузиазм Автобусова, желтые глаза которого зажглись и потухли – ему нравились пиротехнические решения (недаром в Одессе он был антрепренером... Это когда его уже уволили в запас из кадровых офицеров СА и, кажется, за какую-то аналогичную каверзу с тринитритолуолом).
Третий проект Автобусова был прост, как план битвы при Фермопилах: притаиться с калабахой под дверью и...
Что «и...», при кажущейся очевидности, чуть не стало причиной крупной ссоры. Потому что я предлагал осуществить дефецирующему субъекту калабахой по чану укоризну, а потом сдать полиции, А Автобусов настаивал на неизмеримо более пышном мщении в традиции Гая Цезаревича Калигулы: калабаха – само собой (это святое!), засим реанимация, допрос («зачем, мол, так поступаешь, читатель?»), затем товарищеский суд Линча с участием соседа Бузагло и прессы, а после показательного процесса – приговорить врага народа к ежедневному никайону парадной – пожизненно.
– Ты ищешь легких путей! – кричал, весь вспотев, Автобусов. – Ты забыл про воображения полет! Сашу Ульянова повесили за шею, а он совершил несоизмеримо меньшее преступление – разве он клал под дверью Эрмитажа, который в переводе с французского всего лишь «уединенный уголок»? А? Апостола Андрея распяли на косом кресте, с Мани – содрали кожу, Берию расстреляли – а они и двери-то твоей не видали, обходя стороной! А?! Кого жалеешь, за кого заступаешься?! Гуманитарий! Да так они все начнут гадить под нашими порогами. Нет! Нет и нет! Но пасаран. Ни разу чтоб не пасаран. И детям чтоб своим завещал – не пасаран под дверью музей-мансарды!
На шум пришел Бузагло.
– Русские, – сказал он. – О чем кричите? – сказал он. – Балаган. Сначала делаете каки на общественной лестнице, потом кричите, русские... Что, у вас в России нет туалетов? Вот приехали сюда, здесь не как в России, здесь культура, здесь есть туалеты. Барух ха-Шем. Так идите, как положено хорошим евреям, – в туалет и там кричите.
Бузагло неодобрительно втянул мохнатыми дырами ноздрей амбрэ «лесной фиалки» и, приняв нашу обалделость за безответность, с удовольствием продолжил, нагнетая назидательность.
– Или! – сказал он. – Или – возвращайтесь домой, в Русию, ялла. Со своими скрипками, криком и обычаем делать в общественном месте – на лестнице, причем не пользуясь ньяр туалет. Я пользуюсь ньяр туалет, – похвастался он.
– Мы все пользуемся, – сказал Автобусов.
– Мало пользуетесь, – произнес Бузагло. – Я что-то не видел, – добавил он с убийственной иронией.
– Пошел вон, адон Бузагло! Пожалуйста, – сказал я.
Русофоб ушел.
– А ведь действительно, – задумчиво протянул Автобусов, когда мы остались одни. И расстроился. На лбу кабальеро появилась морщина, еле на нем помещаясь. – Может быть, все-таки «он» – это животное? Раз без туалетной бумаги?
Автобусов живет у меня. Днем он сонно бродит в моем халате, с посетителями строг, немногословен. Любит поиграть с компьютером и посоветовать, какой галстук надеть к какому жилету. Спит он чутко, поводя острыми ушами, крепко прижимая к себе суковатую дубину, щекой прильнув к выходной двери.
Случайно забредший с неделю назад на лестницу наш региональный кот мяучит заикаясь – после возникновения в озаренном дверном пролете демона смерти в моей пижаме, с фосфоресцирующими – желтого пламени – глазами, со взметенной калабахой, опустившейся с грохотом в миллиметре от его усов... Еще трагичнее сложилась судьба одного молодого способного стихотворца, намеревавшегося в пол-четвертого ночи завернуть ко мне на огонек на предмет почитать свое, принять душ и занять немного денег. Жить будет, говорят врачи отделения реабилитации, а вот свистеть – уже нет.
И совсем все скверно обернулось с имевшим неосторожность прилететь ночным самолетом из Рабата, где он навещал золовку свою Бузаглу, соседом моим Бузагло, которого я не успел предупредить.
– Что ж, на войне как на войне, – сказал Автобусов. – Хотя, что характерно, – ведь раньше ни слова не мог прочесть по-русски.
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, ИЛИ
ДОЧЬ СВЕТА ФИРА ЦИППЕЛЬШТЕЙН
По утрам я отказываю роду человеческому в чести включить меня в свой состав. На месте рода человеческого я бы не особенно расстраивался: потеря не велика, приобретение чревато узнаваньем. По утрам просыпается моя природа: новости цвета, окрашенного в головную боль забора, автоответчик проквакивает катастрофы прошлой ночи, телефон поставляет свежую штыкованную волну-атаку на меня. Именно по утрам случается самое страшное: событие, как известно, совершается в момент извещения о событии (событие просрочки платежей, возврата опрометчивых чеков и событие ареста за что ни попадя, но как назло – персонально и прицельно – тебя. – М.Г.!). По утрам, ой да по утрам – как бы поздно оно ни начиналось, это утро туманное – ты с последней прямотой постигаешь, чего и каким способом ты уже не успел в жизни, потому что проспал, потому что досадный и, как всегда, открытый перелом пяти маховых (главных) перьев правого рабочего крыла, потому что она уже ушла безвозвратно и вообще тебе не по карману, и потому, что позвонил агент «Общества чистых тарелок» и поведал (это в шесть тридцать-то утра!), что у него подгорело.
Засыпаю я всегда с полуулыбкой на своем полулице – просыпаюсь я – а полуулыбку заело. Впрочем, один раз, помнится, я проснулся хохоча – снился мне сладкий садо-мазохистский сон-сериал. В первой серии я получил Нобелевскую премию, во второй серии у меня ее отобрали несвоевременно ворвавшиеся на мой чердак гангстеры, а в третьей серии выяснилось, что отобрали не мою премию, а Бродского.
А вообще-то деньги снятся к слезам. И все прочее – тоже.
А вообще-то лучше бы мне не видеть сны. Сон моего разума рождает вас, чудовища.
Вот, чего там далеко ходить, мой коллега А. Это в его лошадиную голову запало, пока я сплю – не только написать статью, любомудрское эссе о евреях-гонщиках, но и опубликовать в утренней, которая на завтрак – газете, озаглавив «Абрам и Сара в пыльных шлемах».
Или – чего там далеко ходить, особенно ежели ошпарился кофе и не можешь отдышаться от предыдущей, как принято теперь говорить, «аттракции», чего там далеко ходить, когда коллега Б. сообщает об одной известной персоне: «...он совершил алию из Бруклина в 1982 году...» Это такой язык? Бруклинский?
Или - коллега В... Встаньте, коллега, когда о Вас говорят старшие. Вот так. Это вы, монстр вы наш, снабжаете свои опусы на всяческие темы интригующими шапками – «Любовь... ненависть», «Преступление и... наказание», «Принц и... нищий» и уж совсем лакомое «Молодая... гвардия». Это, как я понимаю, – чтобы заставить читателя задуматься.
Чего там далеко ходить? А радио лучше даже вообще не включать – сие, как выразился один мой конфидент, – полное зооложество, РЭКА, одним словом.
Пью свой утренний кофе. Напеваю «О, лучше б никогда я вновь...».
Стук. В дверь.
«...не просыпался». М-да. От лица, которое стучит в дверь, вместо того, чтобы надавить на пипку звонка, я не жду ничего хорошего. Сам потому что такой. Злая энергия потому что бьет. Бурливый потому что. Ладно, отпираю дверь. Стоит.
Я ей говорю, вернее вру:
– Мадам, – говорю, – вы же видите – я работаю, я занят. – И зябко кутаю хрупкие свои плечи в халат.
– Я не мадам, – говорит она, впрочем, с довольно покорным выражением на личике. (Лет тридцать назад она вполне б сошла за аленький цветочек в засуху.) – Я не мадам, я Света, вернее Ора. И фамилия моя, вернее, творческий псевдоним – Светова. Теперь – Бат-Ора. (На Свету Светову – Ора Бат-Ор, во девичестве Фира Циппельштейн – похожа, как я на Шварценеггера.)
– А я Михаэль Самюэльевич Генделев-Хермонский, – говорю ей в надежде, что не поверит, зальется русалочным смехом и убежит, цепляясь за березки, в даль, в даль...
– Я не оторву у вас ни одной лишней минуты, – лепечет Света-Ора-Фира, и вдруг я замечаю в руках, точней притулившимся у трогательно непрямых ног мальчикового размера – чемоданчик. С такими демобилизуются из спецназа или выходят из лагеря.
Я очень не люблю, когда мне стучат в дверь, но еще больше я не выношу, когда в проеме стоят с чемоданчиками. Аленькие цветочки запаса. Я прямо паниковать начинаю.
– Не отрывайте у меня, если можете, – говорю я с нелюбезностью, прямо граничащей с хамством. – Я работаю, понимаете, Света, дочь Света, я ра-бо-та-ю!
– Понимаю. А над чем вы работаете, Михаэль Самолыч Гёнделев-Хермонский? Новая вещь? Сначала я вам почитаю, а потом с удовольствием ознакомлюсь с фрагментами вашего труда. Что-то очень эпохальное, не правдаль? Небось...
– Небось! – говорю я, чтобы хоть что-то сказать.
В принципе, я малодушничал с собой, поскольку уже исподволь догадался и о содержимом чемоданчика, и о цели визита, и о том, что произойдет сейчас. Но малодушничал, трусил, оттягивал момент истины, уповая на чудо. А вдруг она ошиблась дверью, а вдруг в чемоданчике фамильное серебро инков (из сумм Монтесум), а вдруг мне сообщат, что сгорела редакция, или просто что-нибудь хорошее, или это просто приехала дочка, дочурка моего вожатого из пионерского лагеря папиного завода «Вибратор», и ей негде жить, и жить она будет у меня буквально недолго, ну 2-3 месяца, пока не обустроится, а я пока могу пожить у моей бывшей какой-нибудь жены, на полу, на коврике, или... Да любое «или», но только не это! Не ЭТО!!! С утра! Прямо с утра тонкого утречка, в отличную хорошую стрелковую погоду для приведения в исполнение свежего смертного приговора. Но только не это!
Это – это она. Она звонила по моему телефону, требуя творческого свидания. Прикидывалась мужчиной, старухой, беспризорником, говорящим попугаем Р-ромой, колической старухой, туристом, бардом-надомником – это она, это он, это оно, это судьба. Это из-за нее, него, их – я утреннюю почту сначала получаю, потом выкидываю, читая только наверняка: счета, да штрафы, да повестки, а если что по-русски, так что же может быть нужного по-русски-то – когда опыт подсказывает, что по-русски пишут только графоманы! Светы бат Светы.
И вот так, по дешевке, вот так опрометчиво подставиться, чтоб взяли с постели, тепленького, токо что кофею испившего, еще чубук дымится и...
– Небось! – отчеканил я. (И решил для себя: Нет! Невермор. В этот раз я проявляю недюжинную свою волю, несгибаемость – нет! Ноу, нон. Ло! Нихт – в конце концов! Я пойду до конца. Надо будет – переступлю закон человеческий. Не хватит – попру Божественный Закон.)
И – тоже мне: свинину в молоке ее матери – нельзя, бибикать в субботу – нельзя, нецку будду или бюст Биби Нетаниягу на буфет – нельзя, даже жениться толком, т.е. на вольной и статной шиксе – нельзя, а читать свою графомань с места с необщим выраженьем тетерки на лице – мне, вводя меня в нервическое состояние, опасное для жизни, – можно?!
Да креста на них нет! А раз Бога нет, разрешил один русский классик – значит, все м-м-ожно.
Значит, можно дочь Света убить. И даже нужно дочь Света убить. И многие, я знаю таких, – меня поймут, многие поддержат, а многие и пособничать станут и укрывательством заниматься. Вот, скажем, – Носик, мой сосед. Молодой сильный Носик. За углом живет. Свистну, он подбежит, сделает С. Световой подкат, смотришь, пока я ее душить буду, и Аркан Карив подойдет, и Меламид, сосед добрый, и главная Редактор Окон подвалит заслонять происходящее от нескромных взоров. А тело этой бат Светы уже сам Эдуард Самойлович сховать поможет, это ему несложно, учитывая его связи. А замочили во девичестве Фиру Циппельштейн... И даже если сядем – так и сидеть в хорошей команде, и даже многим не впервой, и почему бы не посидеть, ежели за хорошее дело и всем ребятам пример? А?)
Вот такие (взятые в скобки) мысли мгновенно протаранили мое сознание и вырвались из клыков наружу в грозном реве:
– Небось!
– Небось! Небось!!! Небось!!!
Я выпустил ногти. Чешуя имени Ариосто и Тассо проступила под глазами, боевые щитки из шипатого хитина наползли на ушные раковины («закрылки» – ласково называли их случайные боевые подруги, любя перебирать их в минуты забвенья), я встал на хвост. И дыхнул. (Вечер накануне, как пишет в отчетах о собраниях ИЛК М. бен Шмуэль, явно удался.)
Откровенно говоря, я терпеть не могу по утрам вставать на хвост и вообще делать все прочие, кроме дыхательных, физические упражнения. Но в данной ситуации выхода у меня не было. Его – выход – заслоняла «поэтесса, ученица поэта Д., автор 23 поэтических сборников, увидевших тот еще свет», единственным и сокровенным – а тайное, блин, становится явным – желанием которой поэтессы дочки Света является прочесть МГ свои сочинения с места, и что мне должно прийтись по сердцу ее творчество, по ее – есть такое мнение.
Восстал я против мнений Светы.
Я слез с хвоста и предложил мадам («я вам не мадам») выйти отсюда вон (в смысле пройти, сюда, простите, не сюда – здесь спальня, а там занято, а вот сюда, пожалуйста, и подождать, покуда я, пардон, приведу себя в порядок и переодену сорочку...)!
Потом мы с ней пили чай. Оказалась Фира прелестной теткой, умелицей и мастерицей по части варений, солений и сушений, дала мне пару бесценных кулинарных советов и обещала научить вязать свитер и варежки для когтей – мерзнут, понимаешь, перед грозой, ломит во второй-четвертых фалангах: артрит. Очень тепло и содержательно повествовала мне Фира о детских и отроческих своих годах, проведенных в маленьком городке на Днестре, который по весне весь покрывается нежной зеленью распускающихся каштанов и цвет – легкий и непрочный – сливовых дерев радует взор. Я люблю слушать про цвет сливовых деревьев, если не в рифму и с баночкой сливового варенья из укромного уголка сундука на ручке – баночки, сохраненной между пухлыми, как только их выпускают на волю, и спрессованными в спящем состоянии, но в нашем случае не увидевшими воли рукописями Светы Световой.
О чтении вслух не могло быть и речи, сливовое варенье ласкало мой раздвоенный язык, над чаем стлался парок.
В дверь с грохотом постучали.
– Кто там? – не отпирая, сказал я забытой страшности рыком (рот был забит оладьями спорой Фириной работы). – Я работаю. Я занят.
– Это я, Лана, вернее Илана, мой творческий псевдоним Лана Огнева, теперь я Илана Бат-Ям...
– Фирочка, вас там спрашивают, – сказал я Фире, перетирающей тарелки.
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ПУРИМ 1984 ГОДА
Не, теперь и праздник не в праздник. Не те пошли нынче праздники. Взять, например, Пурим-84! Вот это было веселье! Невзирая на тяжкие финансовые условия. Я, помнится, традиционно нарядился в костюм знатного вурдалака.
Стою я и примеряю перед зеркалом наплечную галлюцинацию. Глюк в этот раз представлял собой такого маленького крокодильчика с крыльями, высмотренного мной в наборе «Сделай сам, юный палеонтолог!» – мэйд ин Кореа.
Даже в масштабе 1:125 гадина вид имела столь омерзительный, что, случайно скашивая глаза, я отшатывался. Сам от себя далеко не отшатнешься, поэтому я решил следовать принятому за аксиому Главному Закону веселого праздника Пурим: надо так выпить вина в Пурим, чтобы не отличать Амана от Мордехая. Поскольку я и вообще-то не сильно отличал Амана от Мордехая, то собственным умом вывел из этой аксиомы лемму: полагается на Пурим напиться так, дабы никого не отличать от Эстер.
Так вот. Всю терминологическую белиберду об аксиомах, теоремах, правилах буравчика и леммах я воспринял со слуха от моего, русским языком говоря, руммейта – Льва Азаровича М. Лев Азарович М. – солидный человек, выпускник мехмата МГУ – преподавал математику в одной из иерусалимских гимназий, по совместительству был он беллетрист авангардного толку в свободное от преподавания «этим мерзким тра-та-та детям этой тра-та-та од паам тра-та-та вэ од паам тра-та-та-та алгебры!» Ха-алгебры!
Лев был автором знаменитой педагогической сентенции «И тогда мне хочется схватить этого (эту, этих) за его (ее, их) безмозглую башку, кинуть на пол и топтать, топтать, топтать! Чтоб хрустело...» (Это к вопросу о методике преподавания тригонометрических функций возрастной группе типешэсрэ.)
Ученики (и ученицы) в Леве, который – Лева – в ивритской транскрипции превратился в Льюбу, души не чаяли, потому что был он джентльменом и человеком добрым до слабоумия, педагогом отходчивым и с любой бестолочью готов был бесплатно сидеть хоть сутки напролет. Он дружил с ящеркой-гекконом, самовольно вселившейся в наш совмещенный санузел и пугавшей некоторых нервных девушек, дам и вдов до визга.

Итак, вошел мой руммейт и сразу спросил: «Это чья галлюцинация – вампир?» – «Моя», – быстро сказал я, боясь, что он у меня ее заберет, и ласково пощекотал наплечное ископаемое за ухом, чтобы раз и навсегда продемонстрировать, кто здесь кому хозяин.
– Это птеронтодон, зовут Изя. Полное имя Изяслав. А я не вампир, а вурдалак, бери выше! Правда, красиво?
Я оправил жабо с почти настоящими зубами.
Лева посмотрел на меня с восхищением.
– Слышь, Генделев, одолжи Изю. Дай напрокат! Я тоже хочу прикинуться в праздник. И пошли гулять, будем знакомиться с прелестницами: ты, я и Изя.
(Дождь за окном лил, шел стеной, как Железный занавес.)
– В твоем возрасте и при нашем образе жизни давно пора было бы иметь собственную галлюцинацию. Этот пернатый глюк, может быть, самое дорогое из всего, что у нас с тобой есть, – сказал я нравоучительно, продолжая вертеться перед зеркалом.
Я был решительно недоволен тем, как сидят на мне ядовитые когти, они жали, чесались, яд с них не струился.
Мы выпили за Амана и Мордехая. Лева явно завидовал моему великолепию. Взгляд его шарил по пустым стенам холостяцкой нашей обители. Мы выпили еще. Через некоторое неотчетливое время я уже был готов: то есть был в состоянии сжалиться и считать Изю нашей общей галлюцинацией, присвоив и ему внеочередное звание Белого Орла. Изя, свешиваясь с плеча, сам закатывал налитые рубиновые глазки и согласно кивал, скаля зубки клюва. За окном лило. На улице – ни души. Веселый праздник Пурим образца 1984 года, обхохочешься.
– О! – вдруг вывел из убаюкивающей задумчивости нас с Изей Лева. Его взгляд уткнулся в алую тюлевую занавеску, драпировавшую битую форточку.
– О! – сказал Лева. – Я придумал себе пуримский наряд. Я надену костюм занавески! – И он сорвал алую с карниза вместе с кольцами.
– О! – сказал я. – Наконец-то эта гадская тряпка покинет наш дом. Кстати, и адский цвет ее импонирует моей новой личине!
Восклицал я, чуть пришепетывая, то ли из-за мешающих клыков во рту, то ли от усердного соблюдения Главного пуримского Закона. Пожалуй, все-таки от выпитого. Клыки сидели в челюстях как влитые, почти не соскальзывая. Крепко сидели клыки. (Лева тоже почти не пришепетывал. Кольца занавески обрамляли его патлатый лик.)
И тут кончился дождь. Как будто прекратили мылить стекла грязной водой. На треугольнике Бен-Иегуда – Кинг Джордж – Бен-Гиллель, где мы, собственно, квартировали, начал исподволь накапливаться маленький, взрослеющий шумок, шум, гул, гам, чтоб с оглушительным взрывом лопнуть, как хлопушка-петарда, и покрыть зонтом великого Пурима центр Иерусалима. Под нами заревел Пурим, захохотал, заклокотал, застрелял, завопил.
– Ну, вурдалак, – сказал Лева, одернув занавеску, – пошли прожигать жизнь!
Я резко встал, накренился (Изя перевешивал и кренил) и сразу осел обратно. Вероятно, жали клыки. Но все же взял себя в руки и браво заскакал вниз по лестнице, строго в затылок Занавеске.
В жизни Лев (Азарович) М. – человек, мягко сказать, ненаглый. Знакомство с дамами было вечным кошмаром его, а значит, и моей жизни. Он хотел, он желал, он умирал познакомиться с ней, единственной: Деби-Рути-Яэлью – на худой конец – Оксаной, но решительно не мог дальше имени своего продвинуться в представлении. От смущения. Поэтому, когда ко мне в гости приходили Деби, Рути, Яэль, на худой конец, Оксана, Лева, представившись «Люба», деревянной походкой уходил в свою комнату, запирался и врубал «Брира Тив'ит». «Какой он милый, этот Льюба», – говорили Деби, Руги, Яэль. На худой конец Оксана долго и хорошо смотрела на запертую дверь Левиной спальни и, хрипло вздохнув, уходила вниз. Тогда из комнаты легкой походкой являлся Лев и шел мыть посуду. Эх, были времена!
...Не успело наше трио – я, Изя и Лев в занавеске – вывалить из парадной на улицу Бен-Гиллель, как подо мной что-то взорвали, ноздри и окружающий их нос залепила снайперски посланная струя пены, а на лиловый, весь в каплях крови жертв моих плащ, которым я очень гордился, особенно складкой, ниспадающей справа, – на шлейф мой наступили.
– Какая прелесть! – раздался голос над ухом. – Какой костюм!
Не успел я оправить Изю и ответить, что я, мол, Владимир Дракула Четвертый, граф Трансильванский, виконт де Шу и барон Эсский, семь невест которого после соответствующей процедуры стали вампирессами, и т.д. и т.п., а это, мол, Изя, птерано... птерану... тьфу! Ну, в общем, птеродактиль, моя боевая галлюцинация и т.п., а тебя, красавица, как зовут? и т.д . и т.п., – как обнаружилось – восторг обращен вовсе не ко мне, а, наоборот, к Леве и повторен с настойчивостью и даже хором. Что это не мы с Изей, а, наоборот, Лева стоит в стайке обалденных пчел-двойр, цыганок, принцесс-эстер (2 шт.), синдерелл, барби (или барбь? барбей? – 2 шт.), кошек и одной Той Самой, Единственной, по крайней мере, с моей точки зрения. И дает Лева объяснения, что он – Занавеска. Занавеска Специальная, Алая, Очень Таинственная. И ведь откуда что взялось?..
На Бен-Иегуде остановилось карнавальное действо! Почтенные студентки Бецалеля направо и налево бросали своих раскрашенных оболтусов, дабы подойти к Леве и спросить, где он взял такой оригинальный костюм, как это мило с его стороны, и совали телефончик...
Манекенщицы «Польгата» припар- ковывались спросить, кто его драпировал, и он фотографировался на их фоне.
Через улицу на платформах неслась Пнина Розенблюм (да-да! и тогда Пнина, и тогда не менее Розенблюм!) предло- житься пойти куда-нибудь потанцевать.
Гостящая, как ослепительной вспышкой выяснилось, в Израиле Бо Дерек навязывалась пойти с этим милым «идише-занавеска» попировать в «Хил- тон». И даже секретарша министра Зет, про которую все знали, что она... Но – об этом не надо...
Я стоял оттертый и все более оттираемый наливающейся женской, дамской, девичьей толпой, эпицентром которой был мой друг – педагог Люба М. Меня дергали малолетние резвящиеся шерифы-индейцы за зубы, поливали пеной, норовя попасть в уши, наступали на шпоры. Не вынеся позора, Изя вдруг укусил меня за предплечье и, заклекотав злобно, снялся, оборвался и улетел. Прощай, мой глюк! А Лева – а Лева шел по карнавалу, как авианосец по Хайфскому заливу. Лева раздавал автографы и интервью! Его фотографировали для «Маарива» и снимали на видеомагнитофоны для «Вога», и был он таинственней князя Монако и популярней принца Чарльза, ибо был он Великая Красная Занавеска-84. Он мог себе позволить все – и позволил все. Твердым гарцующим шагом Лев подошел к самой красивой маске – обольстительной самой маске... Конечно, это была Она. Она! Джульетта-Старлетта-Пьерретта-Баббетта, затянутая в столь облегающее, в столь манящее и все в блестках на заду.
Короче, Занавеска подошел и призывно потрепал Ее по самой выдающейся части ее костюма. По блесткам. От движения потрепывания тюль на голове педагога отогнулся, костюм-Занавеска открыл лик, и удивленная Королева Бала, естественно, обернулась.
Если Лев Азарыч выпучил глаза, то эти два выпученных глаза были булавочными головками по сравнению с выкатившимися блюдцами его избранницы.
«О, Льюба?! Ма ата осэ кан? Вэ ма зе? Ма зе?» – ошарашилась Шоши Коэн – самая бестолковая и самая бойкая ученица 7-го класса гимназии, где Лев Азарыч преподавал свою тра-та-та-та алгебру. «Слиха, – сказал Лева глупо, – я проверил твою контрольную. А это – занавеска. Слиха». И для убедительности брякнул кольцами. Сам он стал цвета своего костюма. «Тебе придется подзаняться», – сказал Лев Азарыч Шоши Коэн – гимназистке 7-го класса.
Мы вернулись в квартиру молча, стараясь не смотреть друг на друга. На подоконнике, виновато отворачиваясь и пряча взгляд, сидел как мокрая курица Изя.
– Знаешь, – сказал я, – возьми его себе, пусть это будет твоя галлюцинация.
...Надо ли упоминать то обстоятельство, что популярность Льюбы М. в гимназии резко пошла вверх. На педагога приходили посмотреть из 6-го, 8-го и даже из 11-го классов. «Это Тот, Кто Ходит в Занавеске», – говорили о педагоге. А Шоши Коэн была избрана королевой красоты гимназии в том баснословном 1984 году. Математику она сдала на 96.
САМ ДУРАК, ИЛИ УРОКИ ДИКЦИИ
– Вот ты, например, ты: нос у тебя как у меня, даже потверже и блестит.
– Стены пробивать таким клювом – причем стены недопонимания и взаимного недоверия, вот ты, ну что ты сидишь, носом вертишь? Что тебе у меня не нравится? Масштабы не те? Ты безусловно – это да! – привык к масштабам Великой империи, но сам-то? – что у тебя своего, персонального, на одного? Клетка – клетушечка одноклеточная. И звездочка вдали. Да, конечно, мы – страна семь сорок – две шаги налево, ни одной направо... Оно конечно. Но сам-то там – из милости живешь, на кормах... Подумать, триста лет живешь, в этой культуре... Люди столько не живут. Ну, Пушкина помнишь, как наизусть... Ты еще Пуришкевича вспомни. На что надеешься? На приватизацию?..
– Прр-рриватизация!.. Бррраво, бррраво! Браво, пррриватизация! Беррру ваучеррр. Быстррро инвестирррую... ррроскошь!
– Недоумок. Знал бы, ни за что бы въехать не разрешил... Вон сколько чужого – то есть моего – места занимаешь. И – нечистоплотен: пух в голове, везде корм, ногти черные. «Можно Абраша у вас поживет... Ну два, от силы три дня. У вас – персональный двухомнатный дворец, а у нас, сам знаешь, – два года в стране, схар дира, дыра для двоих. Он скромный, много слов интересных знает, культурный...»
– Культуррра! Рррусская культур-рра... вершина ррразума наррродного!
– Давай, валяй, агитируй, иностранец. Ни одного ж языка толком не знаешь, «включая родного»...
– Рррусская ррречь – сокррровищни-ца! Деррржавин, Коррроленко, Бррратья Карррамазовы...
– Идиот...
– Нерррелевантно!
– ...Ты еще скажи – Пастернак...
– ...Пастерррнак! А – рррусский еврррей!
– Русский еврей может найти себе место и не в галуте...
– Диаспоррра! Ррезерррвуаррр развития еврррейского дарррования: Рррадек, Тррроцкий, Бррратья Туррр, Шатррров, Алигеррр... Р-р-роскошь!
– Но ведь Бродский-то уехал из России. Он в США, а у нас...
– Гарррнизон! А – Каррроль? Тррро-паллер! И Рррозовский?!! А Добррро-вич!? И – Ррразумовская! Рррадетели трррадиции ррроссийской! Культурные ррребята. Авангарррд! И – Швар-ррцбанд!
– Слушай, а чего ты здесь, собственно, делаешь, турист?..
– Туррризм – рррука дррружбы! Между наррродами. И гастррроли. Тррружеников эстрррады. Культурррный ррразмен. Конгррресы и интерррвью для прррессы. Рррадостно прррисутствовать пррри исторррическом зрррелище прррисоединения изррраильской пррровинции к культурррной метрррополии...
– Орел ты, культуртрегер. А между какими народами? А, Абраша?
– Рррусский культурррный еврррейский нарррод и еврррейский рррусский нарррод Изррраиля – бррратья. А нерррусский еврррейский нарррод Изррраиля – дикаррри.
– А я кто, по-твоему?
– Дурррак.
– Поговори у меня, птичка божья, клюв порву. Жрать не дам. Тоже моду взяли: прямо с трапа в лодке – учить нас, как жить. Пророки.. Слушай, Абррраша, а почему я – дурак?..
– Зррря эмигрррировал...
– Я не иммигрировал, а репатриировался. Семнадцать лет назад. И...
– Дурррак. Отверррг ррродник ррродной ррречи. Рррезультат: ррровесники тррретью трррилогию о перррестррройке прррезентиррруют, мррракобесие ррразоблачают антинаррродных пррреступников. За гонорррар, ррразумеется. Герррои Ррроссии и окрррестностей. Пррризнание обрррели на прррогрррессивной трррибуне. Мансаррррда с дырррками и ррработа в ррредакции – ррразве рррезультат? Разбитое корррыто, а не биогрррафия. Кулинарррные рррецепты... Дурррак!
– Сам дурррак ты, Абраша! Рррукописи не горррят. Я – на ррродине пррредков... А горррдость? А ррреноме?
– Брррось... Дуррриком прррикидываться. Интегрррация в изррраильскую культуррру. Это не хухррры-мухррры... Трррюк пррровалился... Изррраилю вся ваша рррусская гуманитария алии 70-х ни на фиг не понадобилась. Ни один из писателей, пишущих по-ррусски, до сознания изрраильского общества не достучался. Лучшие и наиболее сообрразительные – уехали. Анрри Волохонский да Гирршович Леонид в Америке, остальные кто где – в Америке, во Франции... (Это уже, не говоря о том, что наиболее именитые – те вообще в Израиль не приезжали.) Те, кто побойчее да понепритязательней из пишущих по-русски в Израиле, – те, конечно, обустроили свой духовный быт – при кормушечке. Да и то – убого: там стипендийка, там премийка размером с колготки, там лекция от Сохнута, там выступление перед киббуцными ветеранами. Ни одна мало-мальски приличная книга, написанная по-русски в Израиле за последние два-три десятка лет, не была переведена на иврит, а даже случись такое, израильского читателя не нашла бы. И это касается не только литературы. Может, вы, писатели, – просто бездари и шлимазлы? Так нет! Бездарями, лузерами и шлимазлами оказалась вся гуманитарная группа трехсотпятидесятитысячной алии 70-х. Ни одна волна алии из стран Восточной Европы и очень северной Африки не умудрилась с таким беззвучным эффектом провалиться на политическом поприще... Ни одного парламентария! Ни одного министра! Ни одного человека в армейском командовании! За тридцать лет тотальной, духовной, культурной, политической и, экономической интеграции (вы) выдали на гора Израилю: одного жулика международного масштаба – Калмановича – и одного Анатолия Щаранского, числом ровно один экземпляр. Причем Щаранский – менее известен широкой публике... Знаю, что говорю... Да профессора, скрипачи, да художники... Но что ж мы так облажались – замечательно талантливая нация, русские евреи? Даже русскими делами – за редчайшим исключением – ведают отнюдь не экснострисы из русской алии... Стыд-то какой: посол Израиля в России по-русски ни бум-бум... Ни одной государственной премии по литературе и искусствам не присуждалось русскоязычному писателю. Ах, рукописи не горят, они издаются в Москве!..
– Но мы на родине...
– Нет, это мы – на родине. Потому что из трех реальных претендентов на президентский трон России – три, и это не смешно, в той или иной степени евреи: русский патриот Жириновский, российский генерал Руцкой и Г. Явлинский. Потому что в парламенте России евреев столько же, сколько в кнессете, но в кнессете нет «русских». Это к вопросу об интеграции 70-х. А теперь об алие 90-х... Алия 90-х – это вообще не алия. Это выездные гастроли и временные инвестиции черного капитала...
– Каррамба!..
– Что слышал. Русские газеты, русское тиви (причем вещающее, но одно и то же, как из Москвы, так из Тель-Авива), русские кабаки и чартеры Лод-Шереметьево... Курррорт...
– Абрраша?!!
– Сам ты «Абраша». Меня зовут Абрам Моисеевич, и я член совета директоров издательского концерна, оборот которого больше госбюджета вашей гордой страны.
– А если я тебя коррма лишу?
– Экстррремист!!!
– А если на клетку твою плед наброшу – и сделаю тебе ночь? Из соображений субъективного идеализма?..
– Рррот не закррроешь ррреальности... Терррор не сррредство борррьбы с пррравдой. Аррргументы ррразят насмерррть!..
– Но ты же – попугай. Полудекоративное домашнее животное, птица... Какие у тебя права?
– Пррраво на пррравду.
– Ну и придет начальство какое, там у тебя на твоей «ррродине», и «спррросит»: «Что ж это ты, Абраша, разыгрался в демократию? Мы тебе “хочешь сахарррок?”, а ты наш строй подрываешь?» Что ты им ответишь, демократ ты русский, Абраша? Или ты только здесь – рупор правды?
– Рррупор пррравды...
– А там ты – кто? А, Абраша?
– Абррраша...
– Абррраша должен сидеть где? На своем месте... Верно? И в слове «антисемиты» нет по рассеянности ррродной гррраматики буквы «эр». А Абраша, наш Абраша должен хорррошо говорить букву «эрррр»! «На горе Арарат растет крупный виноград»... Абраша, скажи: «Фронт национального спасения»...
– Дегенеррраты... рррасисты.
– Абраша, Абраша, скажи: «генеррал Стерррлигов»...
– Бррр... Погррром!
– Скажи, Абраша, – «Жиррриновский».
– Ррренегат. Каррраул!
– Ну не хочешь «Жириновский», скажи: «ЛДПРРР».
– Гевалт!!! То есть ррразбой, ррраз-гул. Ррразброд... Ррреволюция.
– Ну хорошо – скажи: «Руцкой».
– Монстррр. Бррр.
– Скажи: «Явлинский».
– Гррригорий прррожектеррр!
– Делаешь успехи. Скажи: «Рррос-сийская Федерррация».
– Пррротекционизм. Коррупция. Мафиокррратия. Слушай, давай еще выпьем...
– Нет, ты подожди, Абраша. Ты мне вот что, ты мне без балды скажи. Ты чего сюда приехал?
– Да понимаешь, Михаэль Самюэльевич, там у нас чего-то очень страшно становится. Вот я и приехал посмотреть, если что... У меня уже полсемьи здесь, под Ашдодом.
– М-да. Слушай, Ави, а может, тебе того, послать все это на... буквы и сюда, на постоялку!
– Так тут у нас что? Ну скажи, Самюэльевич? Что у нас тут? С террриториями?!!
– Терррор!!!
– А правительство здесь у нас?
– Барррахло!
– А с идеей как? С сионистскими, пардон, ценностями?
– Мрррак. Зарррывают морраль и нррравственность в дерррьмо!
– Бесэдэр, Михаэль Самюэльевич. А вот с культурной проблематикой?
– Пррровинция. Перрриферия.
– Так что же делать, Генделев?
– А хрррен его знает. Выпьем, Ави. Уррра!
– Уррра...
КАК Я РАБОТАЛ ЖУРНАЛИСТОМ
В ИЗРАИЛЕ
Я встаю поздно утром, как и лег – с петухами. И сразу: начинаю зарабатывать легкие деньги. Сижу, завтракаю с роскошью – а слышите легкий такой звон? Точь-в-точь, как в ушах вперед гипертоническим кризом? То-то же! Это мне деньги капают. На счет.
За завтраком я, как правило, принимаю просителей. Униженных. Понятно, за стол я их не сажаю. А то чего-нибудь съедят. Вот, помню, давеча пришла вдова. Вшивая. Все дети с ней которые – инвалиды труда, полгода в стране. Она овдовела еще на трапе самолета. Дело было так. Как только бюрократы из министерства абсорбции трап подкатили – она сразу: бац! И – овдовела. Помыкалась-помыкалась – куда ей? Попробовала по-черному устроиться на черную работу на черный рынок. К Шварцу. Трудно было бедной вдове переступить через гордость – все-таки Высшая Гуманитарная Академия бронетанковых войск, красный диплом за плечами. Доктор искусствоведения за плечами. Блестящая карьера, громадная ответственность, недюжинный талант, острый пытливый ум за плечами.
А она – одна. В чужой такой, вообще не понятно какой стране. Даже названия вспомнить не может какой стране. Дети на руках. Родственники на руках. Никак не могут встать на ноги. Продала все с себя. Отказывала себе во всем – не помогло. Житейская такая история. Сипур иши.
Я к тому времени уже объелся деликатесов (дело происходило за завтраком, арухат бокер. Завтракал я по-ватиковски, по своему обыкновению, прислуга с ног сбилась, таская мне хербалайф) и вволю посамодурствовал: одного просителя выдал властям, семейную пару заслуженных киноведов пороли на мерпесете, а инженеру из Нальчика приказал барскую мою суку выкормить грудью. Так что натешился. Поэтому решил проявить толерантность к бедной вдове. У меня как раз была свободная панель, я ее как раз туда и отправил. Вместе со всеми детьми ее, инвалидами ее труда. В двенадцать часов по ночам дети приносят мне с трудом заработанные крохи – оброк. Долго они не протянут: рабочий день от зари до зари, а у всех четверых глисты. Но мне-то что? Ха-ха! Это у нас смех такой – из определенных артиклей. Поев, я славлюсь своим бессердечием.
Покончив с завтраком, я сразу торгую продажным пером. Пером я беру взятки. Приходят ко мне всякие нувориши и коррупционеры и просят меня не освещать в печати их темные делишки. В зависимости от размеров подкупа я соглашаюсь в той или иной степени не освещать. У нас в редакции вообще собралась такая бражка, рука руку моет. Носик обычно моет руку Аркана, Аркан, в свою очередь, закрывает глаза. У многих, особенно по первости, сердце обрывается. Очень сначала обрывалось сердце, глядя на неприглядные наши делишки, у Зайчика. Руки у него опускались, и он не хотел мыть руку Кравчик, которая, редактируя свою колонку «Мусор и совок» (советская милиция в Израиле), отмыла черного капитала столько, что Зайчик вынужден был потерять совесть. Но я тоже хорош! Я так хорош, что был замечен в попустительстве. Но – еще не время раскрыть весь неприглядный характер, как я хорош. И не один я хорош, наша главная редактор «Окон» тоже хорош. Не говоря уже, прямо скажем, о персоне Самого. Уж как хорош персона!..
Продажным пером я торгую до полудня. Обычно я наторговываю на виллу, на инвестицию в наркобизнес и на содержание внебрачного сына в деревне. Что мне влетает в шекелях, учитывая расходы не по средствам на кормилицу, поилицу и борейтора. Но я ни в чем себе не отказываю, надо ведь передать в надежные руки свои неблаговидные дела – для эскалации патернализма и нарастания коррумпированности.
Ровно в час у меня перерыв на обед. Лакеи и гарды хамски, нанося увечья и унижая человеческое достоинство, разгоняют очередь в приемной – люди стоят в коридоре с утра! (NB! Не забыть унизить их человеческое достоинство, убрав плевательницы. Пусть хлебнут горя.)
Обедаю я в кругу чинуш. Как правило, кто-нибудь из нас рассказывает сальности, не брезгуя скабрезностями. Все гнусно хохочут, обычно теми же определенными артиклями (ха-ха-ха), но с особым цинизмом. Достается ни в чем не повинным: ветеранам-скорнякам, учителям вождения, орденоносцам в отставке, старушкам-библиотекаршам. Прислуживают нам доктора наук, все время никайоня.
Каждый из чинуш пожирает гору пищи: яйца пожирает, крупу пожирает, ест мацу. Я стараюсь ни в чем не отстать от подобных мне. Жмурюсь, лоснюсь, сыто икаю. Оставшиеся за дверьми отдельного кабинета и номера бесправные репатрианты (не забыть убрать плевательницы! – М. Г.) харкают кровью.
Все, что не съели сами (яйца, крупу, мацу, кетчуп), мы не справедливо делим между нуждающимися, а напротив – наделяем особенно приближенных эфиопов, оставляя русскую алию с носом глотать слюнки. Так осуществляется беспрецедентный заговор молчания вокруг проблем.
За закрытыми дверьми.
Помолчав, я уединяюсь и беру взятки телом. Во все тяжкие пускаюсь, используя служебное положение. Недавно я потерял стыд (остатки) и надругался. Расстался я, очень довольный друг другом. Ей теперь только одна дорога – в пруд! Если бы сие стало достоянием общественности, все бы меня порицали. Но я спрятал концы в воду. У меня есть специальный пруд для пущей дискретности.
А происходило попирание так: я сорвал покровы стыдливости с самого интимного – души. Не проявил такта и деликатности в раскрытии темы. Использовал ненормативную лексику. Не соблюл правил, особенно знаков препинания. Замахнулся на святыню, присвоил права, торговал ценностями. Попрались: традиция Великой русской культуры, общечеловеческая традиция гуманизма, мораль. Особенно попралась мораль. Я заткнул рот, связал руки, сел на шею, проявил себя как захребетник. Никто не слыхал мольбы о помощи. А потом я насмешничал. Это уже когда сохальничал. Я ж говорю ей, общественности: теперь одна дорога – в пруд! Как Муму. И вообще – после меня хоть потоп.
Потешился? – пора за неблаговидные поступки! Я сажусь за стол и занимаюсь сионистской пропагандой, суля рай на земле и кисельные берега по бокам (NNB! Архиважно!! Не забыть убрать плевательницы!!! – М. Г.). Обычно я обещаю доверчивым людям садовые участки на Мертвом море, бесплатные слуховые аппараты, гастроли круглый год Хазанова. А их подстерегает суровая реальность: селят на поселение под Дамаском, аппаратов не дают, издеваясь, что слушать надо ухом, а не брюхом, и вместо Хазанова всех служат в армии. Даже девушек. Заставляют работать в воскресенье, лишают троллейбусов по субботам, а по телеку – сериала «Россия, которую мы потеряли».
Хотя я наловчился заниматься сионистской пропагандой и понаторел, все равно усталость берет свое. А надо еще многое успеть: рабочий день не резиновый, а я еще никого и ничего не очернил. Я откладываю пропаганду – ничего, не убежит – и очернительствую. Обливаю: грязью, патокой, помоями, волной ненависти, ушатом, ведром, морем лжи. Кормлю: байками, мылом, обещаниями, соловья – баснями. Забываю, что: как аукнется, так и откликнется, зелен виноград, жизнь прожить – не поле перейти, не плюй в колодец (NNNB! Не забыть убрать плевательницы!! – М. Г.).
Теряю: честь смолоду, всякий стыд.
Воображаю, что: все позволено, самый умный, сойдет с рук, вообще воображаю о себе много. И тут как раз полдник, т.е. файф о'клок. Я перестаю очернительствовать. На файф о'клок я традиционно и привычно пресмыкаюсь перед власть имущими. Так уж повелось, что пресмыкаюсь я перед Пересом. Перед Рабином у меня не получается угодливо. Хорошо получается попресмыкаться перед Шуламит Алони и Ларисой Герштейн. Нас целая толпа соберется и... Главное в этом деле, чтоб нос по ветру (а хвост пистолетом), но ни в коем случае не перепутать, перед кем пресмыкаться сегодня очередь. Лучше всего пресмыкаться перед Щаранским – нет-нет да и отхватишь то орденок, то именьице. Отлично еще бывает подносить подношения. Но тут надо знать – кому что нести: Биби Нетаниягу, к примеру, любит шкурки ООПников из норки; Лариса Герштейн без ума от всего правого: правого дела, православия, правостороннего движения – так что подходец, подходец и еще раз подходец; от Ларисы приходится все время прятать все левое – левые доходы, детскую болезнь, ноты левого марша... В отличие от Шуламит. Главное у нас, журналистов, это следовать пошлой моде и раболепствовать. Вот Тропаллер не хотел раболепствовать, и где он теперь, Тропаллер? Вон Л. не смог сервилизма развить в себе в полной мере – и что? Курьером работает... Не говоря уже о При-Л. Целыми принципиальными газетами сгорают на работе, счет идет на концерны, не жизнь, а хроника пикирующего бомбардировщика. И в бой идут – одни старики.
Попресмыкавшись от пуза, я возвращаюсь домой и безобразно веду себя в быту. Я врываюсь, словно хозяин, в дом и ругаю Ельцина. Почем – зря. Я ерничаю по поводу демократических преобразований и плюю (О! Не забыть убрать плевательницы. Коменданту Кремля! Об исполнении доложить!! По вертушке. В.И. У.-Л.) в душу реформаторам. Я отказываюсь смотреть правде в глаза. Я теряю чувство такта в филиппиках. Один раз я потерял чувство меры прямо при стечении народа, были дамы, барышни, представители духовенства... Что тут было: одного представителя духовенства – Биринбойм его фамилия – даже отливали. Вот так прямо подходили и спрашивали: «Батюшка, ата бесэдэр? Может, вас отлить, отец Рувим?» Вот до чего дело доходило, а отделывался общественным порицанием, как с гуся вода...
Дальше, понятно, ужин. Как правило – званый. Многие интересующиеся просто диву даются, почему я приглашаю к себе на ужин незваных. И даже позволяю себе выставлять их, незваных, но честных и добрых людей, из дома. Специально так высоко хоромы отгрохал без лифта, чтоб выставлять, чтоб лететь турманом обидней было. Это у меня садизм специальный такой взят на вооружение: если кто без звонка и дворецкому не доложившись, или не по форме одет, или нехристь какой турист, или жалобщик, оклеветанный мной с ног до головы, аль поэт-сочинитель – так я бабах дверью: полный афронт! Зверь я лютый, потому что, особливо когда запершись на плад-делет, – дивиденды считаю. И – под балату. Не счесть алмазов!..
А потом, перед сном, я молюсь. Мне не чуждо некоторое ханжество, но, по богобоязненности своей, молюсь я истово: за здоровье и во здравие рабов Б-их Л. Р. из Кирьят-Моцкин, А.и Р. Р-х из Кирона, д-ра М. К.из Кирьят-Шмона, М. Х. из Хайфы, Р. М., С. М. и группы изТверии, Р. и Д. из Холона, К.из Тель-Авива, проф. Б. Т. Р. из Холона (не забыть убрать плевательницы! – М. Г.), Б. К. из Бат-Яма и многих-многих других, цитатой и избранной лексикой писем которых – я воспользовался в предложенном вашему вниманию тексте. Будьте счастливы. И – шрайб открыткес в редакцию.
ХВАЛУ И ПОХВАЛУ ПРИЕМЛЯ РАВНОДУШНО
Некоторые, и даже многие – задают мне вопрос: «Маэстро, – спрашивают они, – как вам, мастер слова, так удаются ваши (т.е. – мои) высокохудожественные произведения? А?»
Есть три в принципе равноценных способа ответить на этот правильный и своевременный вопрос.
а) Так.
б) На... буквы, пошел, мол.
в) Полным развернутым ответом.
Обсудим достоинства и недостатки этих основных способов ответа, на этот правильный и своевременный вопрос.
а) Ответ многопланов, и именно в его универсализме содержится большой нонсенс, если приглядеться, чреватый ловушкой. В чем же чреватость ловушки? В избыточно широком диапазоне от «так – прихотливая игра моего гения!» до – на той стороне диапазона, что во время артобстрела наиболее опасна, – «так вот, знаете, как-то: так и получается шедевр на шедевре»... (Лучше всего удается ответить «так» – на вопрос коллеги перехожей.)
б) Ответ немногопланов. Этим ответом нельзя удовлетворить женщину, девушку, ребенка. Зато – отходят и почти больше не приближаются. На расстояние плеча к плечу не увидать. Потому что: живу, как царь, – один, в номерах служить, подол заворотить, и да, поди, но своим собственном сигноном. Потому что пока, не хаманешь – все равно чего-то недопонимает широкая общественность, а хаманешь – так безусловно: причуды гения, – но зато больше не приглашают на халявный ужин. Поэтому с этим способом ответа приходится все время ходить по лезвию бритвы. Но ответ вполне адекватен, тем паче, что справедливости ради, задав его себе, получаешь приблизительно то же. На выходе. И особенно на выхлопе получаешь этот самый немногоплановый ответ, когда вопрос поставлен в форме: «а зачем, собственно, Генделев, тебе все это на фиг надо?»
в) Полным развернутым ответом мне удалось ответить непраздно и содержательно пару-другую раз за всю мою жизнь. Первый случай цицерона, сорвавшегося с моего персонального языка, имел место во время лекций – семинара по тому странному, в жанровом смысле – предмету привлечения внимания гуманитариев, которое привлечение называется «авторское мастерство», «эготрип», «мастер-класс» или... Ну, не знаю, как это еще назвать, отстаньте!
Пригласили меня читать лекцию о собственном сочинительстве в Институт литературный им. Горького в Москве, который в 1989 году. Я справился с этой нелегкой задачей, сообщив ошеломленной, как позже выяснилось, аудитории о себе: писатель – это всего лишь способ думать, писатель – это не больше, чем отобранное у современной культуры и социума право на высказывание, и, на десерт, – писатель – это не пишущий читатель, а наоборот – отсутствие читателя (живого) очень устраивает и облегчает жизнь писателя (великого). Другими словами – без читателя вполне можно и нужно обойтись.
Не били меня русские писателя-курсанты и приблудные филологи только от почтения к государству Израиль и процессу взаимопроникновения культур – израильской в русскую и русскоязычной в туда же. В громком силенциуме я закончил полтора часа эготрипа, одернул негодяйский смокинг цвета маренго и сошел с эстрады: спасибо за внимание.
Следующий случай поделиться сокровенным представился мне, просто подвернулся, как лодыжка, можете себе представить, на излете моего поэтического гения – в последнем стихотворении последней книги стихов, проименованной мной «Праздник». Стихотворение «Переписка моя с судьбой гороскоп военного мотылька опоздавший на гибель ровно...» я не привожу полностью только из скромности, а не по недостатку места. Это художественное (стих) произведение заканчивается обращением к любимой, символизирующей читателя:
«...не больше
чем смерть в солдате
нуждается в адресате
переписка моя с тобой».
Умру, но лучше не скажешь. Памятник себе воздвиг нерукотворный, а не приоткрыл плад-делет творческой лаборатории!
И, наконец, полным развернутым ответом я отвечаю сейчас. Тут. Мне, Михаил Самюэличу Генделеву-Хермонскому, так удаются мои жемчужины творчества объемом с полосу (10-11 тыс. знаков «Генделева и Генделева» еженедельно как минимум-миниморум и одна копеечка как!) в силу нечеловеческого напряжения сил и усилий противостоять волне соучастия сочувствующих и глубокой заботе близких.
– Генделев, ты ничего не понимаешь! – справедливо говорят мне. – Ты должен писать так, чтобы мыслям тесно, а словам в кайф.
– Будет сделано! – говорю я и следую совету корректора. Я сажусь и пишу, чтоб тесно и просторно. И тут сразу же приходит мой конфидент, он по специальности зубной врач, хороший человек и раньше, когда у меня были зубы, лечил меня бесплатно. За это я его слушаю всегда, даже утром.
«Ну, Генделев, ты какой-то дурак, – говорит он мне. – Мысль, – говорит он мне, – должна быть отточенной». – «Как это верно!» – восклицаю я и точу мысль. Сижу себе, оттачиваю. И тогда, когда иногда припрется кто-нибудь без звонка, – весь потом в порезах. «Пустая статья», – говорит мне мой ученик-поэт Дема, юное дарование, брезгливо отбрасывая рукопись и утирая слезы. О, спасибо, хлопотливо кидаюсь я за пожарным ведром и наполняю статью жаром своего сердца. А если я спрашиваю: «А почему это она, скажи на милость, поэт-Дема, юное дарование, пустая?» – Дема мне все хорошо объясняет. Я бухаю помимо жара сердца еще сарказма и иронии, добиваясь приемлемого для Демы результата. Но тут приходит совершенно расстроенная моя возлюбленная. Какая-нибудь. И прямо с порога дает мне здравый совет: «Генделев, ты с ума сошел!» Я говорю ей: «Не психуй, голубка моя, рыжик, прости (Рыжик это не ты), Пушок! Сделаем! А что случилось?» – «Как ты можешь так обижать людей?» – укоряет меня голубка, моя Пушок, вся покрытая бисеринками слез. «Не надо расстраиваться – мне что раз плюнуть», – целую ее я, резко меняю курс на людей, беру их и перестаю обижать.
– Урод! – приветствует, врываясь в гостиную без стука, где я как раз совершаю креативный акт, старая моя подруга, существо настолько незаурядное с точки зрения психоаналитики, что собирается выпустить собрание снов-кошмаров, обещающее стать бестселлером и разойтись.
– Да! – спокойно отзываюсь я, вставая с ковра.
– Урод, ты растрачиваешь себя!
– Хорошо, – говорю я и перестаю себя растрачивать одним-единым волевым импульсом. И исписываться по пустякам прекращаю.
Но, конечно, случается откликаться откликом на творческие претензии ко мне более фундаментального свойства.
Наиболее часто я отзываюсь отзывом на рекомендации сменить свои политические воззрения омерзительного склада на что-нибудь полевее. Я мгновенно перестаю оправдывать хевронскую бойню и прекращаю считать, что наше правительство не следует судить, а следует по-тихому удавить за бездарность и головотяпство с необратимыми историческими последствиями. Потому что наше правительство, в свою очередь, считает, что мы люксембуржцы, соседствующие с мирными лихтенштейнцами из хореографического кружка НАТО и на елку мы любим марципан.
Опять же, исключительно по своевременности принятого к сведению пожелания в форме тяжелой укоризны, я полностью перекрыл кислород себе в: антисемитизме, что нелегко, глядя на руководителей, лидеров и председателей заведующих российской, скажем, политикой и культурой. Я теперь не антисемит и евреев люблю, особенно поющих «Русское поле» и особенно во главе глав зондеркоманд и избранных средств массовой информации, особенно России. И напротив – после одергивания со стороны отдельных товарищей – я творчески отказался от злокачественной русофобии – тута, на родине предков беспрецедентного меня, – и с обожанием смотрю на свежекрашенных выкрестов во что не попадя, орлиноглазых афульских активистов «Выбора России» имени малых предприятий и при встрече христосуюсь со всеми приезжающими сюда большими русскими писателями Солоухиным и астафьевыми. Не говоря о малых. И с Ильей Глазуновым мы просто обмениваемся коротким «Зиг хайль, боярин!», встречаясь на углу Агриппас и Кинг Джордж, и заглядываем друг другу в глаз.
Именно в силу моей толерантности и гибкости ума моих советников-советчиков врачей в моем творчестве засияли особыми красками картины: выделки блюм и сляб; запущенное – прямо беда такая! – дело с меломеханикой; проблема инвалидов Шипки. С инвалидами Шипки пришлось особенно повозиться – они буквально все забыли о генерале Скобелеве, как живом. Эх, ветераны!..
И еще удаются мне высокомоихудожественные произведения – мне, поелику я метко наблюдаю гущу жизни – я всюду с моим народом, деться от него совершенно никуда нет никакой возможности. Я сижу в гуще жизни, облепленный ею с ног до головы моей. И оттуда живописую.
И, наконец, я выдаю шедевр на шедевре, благодаря хорошему своему настроению, благодаря славе, почестям и славословию, воздаваемым мне, благодаря меня. Слава у меня такая, что я практически могу позволить себе работать почти бесплатно писателем все 23 часа в сутки, ни в чем себе не отказывая. (Час на медитацию, пока порох в пороховницах.) 150 шекелей прописью за строчку в выписываемом мне чеке в год. Меня практически все узнают на улице, в бане и спрашивают, что случилось. Правда, в последнее время я стал совершенно неузнаваем, но все говорят, что это скоро пройдет. Совсем. И что сохранюсь в их сердцах совсем, т.е. каким я был при жизни: горящий вид, добрый изнутри, пиджак с предыдущего материально обеспеченного рано ушедшего, во рту – поваренная книга. Караул полицейских по бокам. «А пусть мой прах четыре капитана...» – так это, чтоб я не беспокоился. Будут тебе, Мишка, четыре капитана – говорят мне, навещая меня, друзья. И дарят всякие дорогие моему сердцу мелочи – дом обставлен: стул и даже кресло на токе двухфазном, подушки – кислородные, в доме домовито пахнет кутьей. Многие предлагают уже сейчас сидеть шиву. Азкара идет каждый вечер, полный аншлаг, полно именитых гостей и послов, не успеваю крахмалить тахрихим. Получаю премии беспрерывно: купил автокардиостимулятор – в приз прикроватный поильничек. Купил в кредит, если что – представляю, как там обхохочутся... Если что.
А славословят меня, как правило, безудержно – правда, за глаза. За правый глаз славословят. Хорошо смотрит еще, говорят сиделки. Вот – в двух-трех тезисах и коленцах – то, что обеспечивает духовное, моральное и почти физическое присутствие в миру моего гения и нескольких моих недюжинных талантов. Если преодолеть врожденную застенчивость и деликатность развернутым ответом. И, пользуясь случаем, еще вот что.
Дорогие мои эпигоны, плеяда, одним словом! Помните, я еще при жизни твердо обещал поделиться с вами секретами своего недюжинного литмастерства? Сейчас, когда меня нет и не будет, слава Богу, среди вас никогда, – делюсь: приемли равнодушно. И еще: учиться, учиться и еще раз учиться. Ни в коем случае не работать.
РЕМОНТ-1
Почему ж это вы, при такой трудовой занятости, так небогаты? – спрашивают, повстречав понурого меня, неблизкие мне люди. Я гордо прохожу мимо в яркой заплате на рубище песца. Не буду же я, живущий, как царь, – один, унижаться, объясняя: я делаю ремонт!
Я делаю ремонт, мне делают ремонт, у меня – ремонт. Я встал на ремонт, я хожу на ремонте, я закрыт на ремонт. Не принимаю, не принят, изгнан отовсюду, внешний целый мир – чужбина, занято; о, дамы прежних дней: ремонт. Сейчас я, например, ремонтирую свою фамильную (Генделев – фамилия) усыпальницу и методический кабинет поэта, прозаика и юмориста. Обхохочешься, взглянув, – у меня вся спина белая. И лицо. И седина. Сказать даже стыдно где. Ремонт.
Я помню время своих первых ремонтов: времена водных феерических инсталляций. В моих руках буквально все горело: проводка, изоляция. Меня било, колотило, лихорадило – я был весь нараспашку, всем ветрам, всем штормам назло, в проемах сияли звезды, освежали порывы, холодили лоб. Я еще не мог достичь своего потолка (2 метра 95 см), и мое неистовство, когда я с приятелями (два художника-возвращенца и один поэт Тарасов) обвалился из пластической фигуры «Физкультурное подсаживание» – пирамида с целью шпаклевки, – некий хлыщ-наблюдатель охарактеризовал: четыре грязных карлика делают ремонт. Он по-другому запел (он был композитор), когда мы влезли на его метр девяносто с лишним, как на стремянку. Теперь он дирижирует церковным хором в Бостоне, обустроился, начал новую жизнь, – а ремонт – вот он, ремонт, как новенький – стоит. Тарасов состарился, родил, оставил вечный город и вредные привычки – а ремонту хоть бы хны.
Сначала я понимал вечность ремонта как глупую шутку природы надо мной и полагал, что все это бесконечно потому, что у меня нет необходимого инструментария. Но с годами оброс, обогатил свой арсенал: в углу стоит античная бетономешалка, на стене транспарант: «Выше стропила, плотники!» В бачке – ковшик от экскаватора. Шанцевый инструмент – повернуться негде, осталось от бывшей жены, не желавшей овладевать нужной профессией высотницы-крепильщицы. Жены от меня выходят – кто по инвалидности, кто по стажу трудового подвига – на пенсию. Гроши, вот что, я вам скажу, эти пенсии. Некоторым приходится подрабатывать. Главное – навыки сохранили, а желающих – отбою нет.
Убедился я в наличии необходимой оснастки, все, буквально все есть, однако – ремонт. Уже весь – как бетон, имею прочный фундамент, обе руки – правые, один глаз – ватерпас. Казалось бы, все имею. Как для счастья, так и для полета. И все равно: крыша едет, пол из-под ног уходит, опереться не на что, стены лбом не прошибить. Куда ни кинь, везде клин и наоборот. Куда ни кинь, везде клин клином вышибает. На кухню творческую выйти стыдно. Ушная раковина забита, в колене чашечка хрустнула, огнь разума – угас. Плиту – стырили, вместе с надписью и датами жизни. В людскую – войти обидно. В люди ходят кто ни попадя. Штиблетой щи хлебать, сидя в кресле Ильи Пророка за шульхан арухом? Зайдет на огонек каменный гость какой, присядет к камельку, пригорюнится. Я – ему: командорушка, говорю, как там наша Нюра? А он только вздохнет, руку пожмет протезом и назад. Долго слышу его шаги на лестнице.
В артистической уборной... Вот-вот. Причем не я. И ручку оторвали. Об усыпальнице поведал? – там ремонт.
Попервости – ремонтировал своими силами: силой друга ремонтировал, вооруженными силами однополчан, привлекал пациентов трудотерапией. Друзья почти перестали заходить, один пришел, сломал стену недоверия и ушел с песней на губах. Поэт К. теперь с клюкой, прозаик М. ушел в запой работать редактором одной газеты, певица Л. стала прорабом в конкурирующем предприятии. Все покинули. Я одинок, я страшно одинок. И ремонт на руках. Есть не просит, просит капиталовложений в него, ненасытного. Вышел я на балкон. Бросил вниз тяжелый взгляд. Попал. Еще раз бросил. Опять попал. Плюну, думаю. Плюнул. Опять попал! И нанял арабских рабочих, т. е. еврейского каблана, умеющего находить с ними общий язык, поскольку его знал с пеленок из бабушкиного бурнуса. Еврейский каблан свое дело да знал. Его стратегией было: свои люди – сочтемся! А тактикой – на плечах противника ворваться на его территорию, обездвижить противника, лишить маневра и связей, пресечь коммуникации и – ремонт!!!
То, что арабский камрад работает, только когда на него смотрит Йоси и не работает, когда капиталиста Йоси нет, означало всего лишь то, что четверо этих трудяг жили у меня. А я искал деятельного Йоси!
То, что о деньгах не может быть и речи, мы же свои люди и взаимопонимаем, а деньги – очень смешные деньги, – означало лишь то, что деньги потребовались в очень смешной ситуации и раза в четыре больше, чем обговаривалось, иначе Йоси грозил все бросить и уйти, что означало лишь то, что постояльцы так и останутся провалившимися к моим соседям по нашему с ними (со всеми) теперь – сугубо совмещенному этажу! Так и будем жить! Семья тихих Асисов, семья Бурлеску и наша – Ахмед, Дауд, я и человек, имени которого я не знал, только похожий на Ясера, но не он! Я вам ручаюсь. Ясер в это время был в Тунисе и никак не мог скрываться даже конспиративно в моей руине (Графские развалины, 8, квартира была тоже 8) под видом кафельщика. Хотя кто знает: Аллах акбар.
– Элоим гадоль, – сказал Йоси бережно, но быстро, не слюнявя, пересчитав деньги, – ты что, банк сорвал?» И крикнул своим, чтоб: заделывали! А те, снизу, – семья тихих Асисов и семья Бурлеску – пусть подержут на вытянутых руках свой потолок, пока раствор не схватится. А чтоб я пошел и сорвал еще один банк, и тогда он придет и проведет мне воду в бассейн, который он выстлет мрамором, чтоб было как у тех русских, у которых он строил в прошлый раз. «Тех русских» – Олега и Зину я как-то действительно встретил. Они поделились со мной радостью. Оказывается, Зина все-таки может стать матерью, а Олег, соответственно, отцом – ибо после полугода проживания в их квартире Ахмеда, Дауда и, вы понимаете, имени мы его не знаем, но настолько похож на Муаммара... Но не он! Я вам ручаюсь, не станет же Муаммар отсиживаться от мирового общественного мнения под видом кафельщика?! – функции восстановились. И когда в этот момент истины мы услышали гром (началась война в Заливе) – я знаю, о чем подумали Олежек и Зина, о моем подумали, о сокровенном: обвалилось-таки! Каждый посмотрел в сторону дома.
Недавно, тиш'а б'ав, я встретил на улице сияющего Йоси. За ним гуськом шли Ахмед, Дауд и некто кафельщик, лицом отдаленно напоминающий, нет, определенно напоминающий Саддама! Судя по сияющему лицу Йоси-каблана, они шли заключать новый подряд, а судя по дате – на ремонт Третьего Храма. Иначе как объяснить отчет госконтролера, что кто-то сорвал банк? Национальный? Значит – не хватило на ремонт, но Господь Велик. Потому что страну они уже отремонтировали по полной программе. Ведь умеет же наш каблан найти «с ними общий язык» – с этими Ясером, Муаммаром, Саддамом и... этим, неуловимо кого-то напоминающим кафельщиком.
И коли что-нибудь грохнет и обвалится, останется только попросить соседей снизу подержать потолок, пока раствор почвы под ногами не схватится. За голову. И тогда уже можно будет всем спокойно развести руками.
Если вам встречается господин средних лет, пристойно, но неопрятно одетый, – у него в доме ремонт, иначе с чего бы это на плече стремянка, в зубах мастерок?
А вот у этой дамы все впереди – гляньте, морщинки, птичьи лапки лишь наметились, муж загулял, в доме ремонт.
Деточка, чего ты плачешь? Ах, в доме ремонт, воспитательница сказала «плакали наши денежки»? Не плачь, детка, смирись – «Хаим, зе ло пикник, Хаим, зе ремонт! Смирись: будет и на нашей детской улице праздник, в нашем детском доме...»
Почему девушки по улицам гуляют, к мужчинам пристают? Почему контингент не на работе?! В Доме Ремонт.
А эти что вышли с плакатами? Дружной вереницей? Передразнивая друг друга? Они обязательно пропустят сегодня процедуры, курс нарушен, врачи в панике – в доме ремонт, даже на этаже для буйных.
И вот этих товарищей я где-то видел? И не на Бен-Йегуда угол Кинг Джордж. Или таких же тють-в-тють, обувь и морды – форменные на ширине плеч. Что, служивые, в Большом доме ремонт? И в доме на Старой Площади? Ремонт! И воще.
Если вы видите на улице человека разумного – знать, в доме у него ремонт, с чего бы ему по улицам шастать?
Мы нам мы новый мир построим и отремонтируем. Будет как новенький, но мы не доживем, внуки наши доживут.
Мы-то что, главное ремонт пережить, капитальный такой, главное, что мы не отремонтируем – дети доремонтируют до нашего конца.
В сопредельной Советской России все с чего началось? Правильно, с перестройки, с Ремонта. А потом это все и на – например – вернулось: говорят, к лучшему. Охотно верю.
У нас – ревизия государственных границ. Будем стоять как стена. В подмандатной Палестине. Подмандатной Восточному Иерусалиму. Впрочем, и стену снесут, нужен будет материал на новостройку нового государства. Да что там говорить, меджнуну ясно, что предыдущие границы нашего государства были слишком просторны. Мешали, блин, активной обороне. Это ведь паникеры кричат – отступление, отступление. Спокойные взрослые люди-стратеги называют «урегулированием» сокращение линии фронта до предела. Чтобы один Фронт – национального освобождения. Мы еще подлатаем, подремонтируем, смотришь, может, Масада и продержится. Пока наши не подойдут. К мысли о полной самоликвидации.
С другой стороны – как же это мы без ремонту? Тест – был. На сообразительность. О результатах лучше не спрашивать было еще в 1982-м. Техосмотр – был. Тех осматривали на протяжении пары-другой веков, признавали невменяемыми. Раньше замок был. На границе. Теперь вся граница умещается на замке. Амбарном: все ушли на ремонт, там что-то с небом случилось. Надо встать и высоко поднять руки. Поддержать, покуда не схватится.
РУССКИЙ РЕМОНТ
Не я обратился к истокам. Истоки моей, сложенной умными руками Йосиных наемников сложной водопроводно-канализационной системы истекли на терпеливых Асисов и мишпахат Бурлеску. Причем в основном распоясалась стихия стоков. Причем очень, и это несмотря на то, что я старался обходиться у друзей и особенно у знакомых! А стоки – все равно. И не молоком, и не медом. Все пять этажей – как промокашку. Хотя хляби и скапливались. На втором этаже вообще по пояс темпераментной бабушке в кресле на колесиках. Ниагарки на лестничных пролетах. Аглая, уходя навсегда, порекомендовала ватика Костика: все, что он ни делал с ней, говорит, золотые руки! А заведется, говорит, не знает удержу, не говоря об устатке.
Костик пришел с другом наперевес. Можно, говорит, Андрюша здесь на столе отлежится, пока вновь не станет чувствительным к влаге и запахам? Конечно, отвечаю, он мне совсем не мешает, пусть поплавает на столе, у меня как, раз, говорю ему, сегодня творческий застой. Стол мне совершенно ни к чему. Сегодня я гребу на диване. Лопатой из-под денег.
Сели мы с Костиком на диван, он золотую руку за борт, я – ноги, сидим, в бурливом истоке побалтываем.
– Сколько, – вкрадчиво спрашиваю, – возьмете за подвиг по обузданию стихий? (Это я, наученный жизнью с Муамаром, Саддамом и Ясиром и еще одним кафельщиком из предыдущего тома «Ремонт-1», – сперва спрашиваю: сколько возьмете? А потом спрашиваю: а сделаете ли? вообще?)
Сделаем, сказал Андрюха с соседнего форта, мимо которого крейсеровала канонерка. Он читал мои мысли. Мысли же мои были «В мире интересного» и в «Загадках вселенной»:
1) Где взять денег на отвод вод и самоликвидацию протеста снизу масс соседей?
2) Сколько денег, где взять?
3) Как потом тихо и с достоинством уйти из этого мира, напевая «за меня ребята отдадут долги»?.. И чтоб не поймали даже в Лоде, где никого не ловят.
Четвертая мысль была боковой и походила на думу и чаянье: «За что?!!» Но эта мысль из ряда «кто виноват?», «что делать?» и «на х... надо?» была незаконнорожденной и на трон сознания не претендовала. Я решил завещать ей квартиру.
– Сделаем, командир, – сказал Андрюха, оглядываясь, начиная различать цвета.
– С-с-с...
– Не надо!!! – дернулся я. – Только не это!!
– С-с-сухо. В горле пересохло, командир. А? Я с-с-сбегаю.
– Ты сплавай, – скомандовал Костик – золотые руки.
Мы обмывали начало ирригации, сидя на дебаркадере, мокрые людишки снизу пытались было добраться до нас со своими жалобами, прошениями и претензиями, но их смывало. Водная феерия длилась, пока у меня не иссякли деньги, которые я взял на отвод вод и самоликвидацию протеста и билет в Акапулько уан вэй тикет без возврата. Потом Костик с Андрюхой представили на выбор сметы перспективных планов.
Дорогой план реконструкции:
Поймать плавающие бутылки, сдать и на вырученные деньги расширить дырку в полу. И немедленно выпить: все стечет, все изменится.
Очень дорогой план реконструкции:
Выложить квартиру каррарским мрамором (шаиш); и открыть грязелечебницу лимитед (Ltd). Наркологическую.
Антисионистский план:
Всем уехать в Акапулько. Или прямо – уплыть.
План «Барбаросса-ахат-штаим»:
Пусть все будет как есть, потому что и так хорошо, только укачивает. Соседи вызвали полицию. Мы пригрозили открыть кингстоны, спев «Варяг» и «Кореец» (хорошая, между прочим, парочка). Утром следующей недели кончились заначки, пресная вода и солонина. Сбежали крысы с корабля. Ушли тараканы. Костик ушел. Андрюха. Я остался на палубе. Размышления мои имели узкометафизическую направленность: откуда берутся стоки в условиях полной и продолжительной диеты. По ночам я, крадучись, сплывал в мир людей. Меня чурались.
Не помню, кто их привел. Один был крупен и хорош собой, зато другой был, наоборот, интеллигентен. Они сказали, сколько это будет стоить, ошибившись не более чем вдвое. Я поймал их, как выяснилось, на слове-кремень.
Они сказали, сколько это будет продолжаться, ошибившись не более чем вдвое. Они поймали меня на честном слове-молчание-золото.
Они сказали, во что мне это обойдется, ошибившись вдвое: я поседел и справа и слева, моя новая жена, появившаяся к этому времени, ушла, но не вернулась, удар меня хватил, но одноразовый и с одной стороны всего.
Они сказали, что ремонт мансарды с видом на небеса арабской застройки времен британского мандата Палестины в Израиле будет мне стоить той еще жизни. Они не ошиблись вдвое.
Когда они подняли балаты пола, мы прямо упали. На соседей этажом ниже, тихих Асисов. Это не было учтено сметой. Я не уныл, а занял у Асисов деньги на ремонт их потолка.
Когда они попытались подштукатурить стену недоверия между мной и соседней вечерней школой для взрослых религиозных девочек с небольшими физическими недостатками и умственной отсталостью в легкой и среднетяжелой форме – умственные девочки сразу легко получили доступ к нашим телам. Они интересовались, почему дяди такие чумазые, кто такой Дема и почему я молюсь по книжке с картинками. Я объяснил, что дяди такие чумазые, потому что они получили высшее техническое образование – в городе, скажем, Алмааты, а не как каблан Йоси – от папы, скопившего базовый капиталец на контрабанде фалафеля, и поэтому дяди проводят реконструкцию в масштабах меня, а не всего государства Израиль, как это делает каблан Йоси. Я объяснил (смышленые попались девицы, не в пример правительственным деятелям со среднетяжелыми отклонениями), что дяди такие чумазые, потому что они многое могут и еще больше умеют, опять же не в пример. Я объяснил, что Дема – он юный сочинитель стихов и поэтому таков на вид. Дебилки спросили, а что сочинил Дема. Я попросил Дему почитать девушкам вслух. Он ушел в пролом, раздалось мерное пение. Пролом мы быстро замуровали. Дема, о, Дема! Если ты меня слышишь, отзовись, мой верный и единственный ученик! На прощание я подарил, швырнул широким жестом в затягивающийся пролом к пожилым младшеклассницам книгу с картинками, по которой я молился. «Кама эта сутра?» – раздался девичий щебет, и все затихло. Я повесил на гладкую стену портрет-аллегорию поэта Демы и люблю на него смотреть.
Когда мои мастера провели в мою мансарду свет разума, я наконец огляделся и выкинул из Дома своего бытия собрание сочинений классиков, с которыми я был не согласен и чье мнение меня совершенно не интересовало в принципе.
Оказалось, что меня совершенно не интересовало в принципе на фиг мнение: об обустройстве России некоего Александра Исаича, об этносе и биосфере Земли некоего Льва Н. Гумилева, об кого считать евреем? – могучей мыслеработы рабби из Крыжополя. Когда же к отвалу полупустых пород добавились плоды умственных процессов еще и мудоидов сигнона Кастанеды, Рериха и других монтесум – жить стало просторнее. Последним лег Фукуяма.
Собственно, последнюю точку в ремонте поставили мои мастера, починив систему слива. Я понял основной принцип бытия: хуже всего тем, кто внизу. Но поскольку стены были уже побелены, мебель расставлена, окна смотрели закат Европы, Азии, Сев. и Ю. Америки – я высунулся из слухового окна моей мансарды и всем посочувствовал. Несколько раз!
И тогда я сел посреди своего великолепия и пригорюнился.
И подумалось мне, что почему бы моим мастерам, пару-другую лет тому как приехавшим из города... м... м... допустим, Алма-Ата, почему бы моим мастерам... м...м... допустим, Сильному Неме и Интеллигентному Игорю, закапанным известкой с ног до хорошо соображающих голов, не попробовать подремонтировать мединат Исраэль. Заняться стоками, отстойниками. Построить пару-другую стен от дебилок. Обустроить слив. Поставить, бехайяй, дверь! Зону озеленения ввести наконец в зеленую черту? Чтоб сидела там и не рыпалась. Почему бы реставратору-краснодеревцу Диме, реставрирующему мои руины (изумительный, к слову, мастер), не реставрировать несколько твердых принципов существования нашего государства? А? Что-нибудь из антикварного сионизма, предполагающего, что израильтяне должны жить у себя в Израиле, а палестинцы наоборот. Т.е. не жить у себя в Израиле. Я, конечно, допускаю, что Костик, руки его золотые, и Андрюшенька вкупе со мною могут вполне комфортабельно, отбив вкус к запахам и хлябям нашего бытия, плавать, выпивать и закусывать на диванчике, когда нас сбросят в море. В каждую освободившуюся бутылку запихнув послание в ООН неприличного содержания – SOS. Мне это даже нравится – русскоязычные литераторы любят стихийные бедствия системы «Гевалт!». И все-таки, может, пригласить мастеров?
Есть у Димы подмастерье, мальчик Витя. Схватчивый такой юноша осьмнадцати лет. Из хорошей, судя по выговору, московской семьи, папа которой семьи, тоже, между прочим, с верхним образованием, промышляет в Израиле извозом.
Так этот шустрый и очень трудолюбивый мальчонка, между прочим, должен где-то жить. Он не пропадет, он себя прокормит, и в качестве негра в Сан-Франциско, и в качестве румынского рабочего в Москве, и в качестве турка в Мюнхене. Но мне бы хотелось, чтобы Витя прокармливал себя в Израиле в г. Иерусалиме.
Может-таки пригласим, скинувшись сообща на плевенькую политическую партию всего какой-то 1/8 населения страны? И эта русская партия заодно поддержит (парадоксально, но не смешно) вотируемое решение российского парламента «О невозможности передачи Израилем Голан Сирии»? Может-таки пригласим сильного Нему, интеллигентного Игоря, изумительного Диму и юного и трудолюбивого Витю (с папой) сделать ремонт в нашем (нашем! Нашем, нашем, а не «их», черт побери) государстве?! Нормальный такой, русский – ремонт?
...Видел вчера огорченных Костика с Андрюшей. Они возвратились из Акапулько. Житья, крикнули они мне, нет в Акапулько русскому человеку! Акапулькцы, кричат в мансарду, ужасные антисемиты. У них, кричат, все для своих, говорят...
Я кивнул. В небе кружил очередной самолет с репатриантами из СНГ, высматривая территорию для посадки, по возможности – мягкой. Летчик выяснял, какой деятель перечеркнул зеленым посадочную полосу.
РЕМОНТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ
Я тяжело перенес ремонт в тяжелой форме. Неоднократно имели место падения (как на меня, так и меня). Возвратные движения чеков, остановка желудочно-кишечной деятельности, частично прекращение метаболизма. Потеря на фиг сознания, что я, собственно, делаю: зачем мне дверь, живут же северные олени без никаких дверей и не тужат. Некоторыми наблюдалась утрата моих функций: речи (это когда мне объяснили, сколько стоит одна жалюзя. Дело было так. Мне называют сумму. Я молчу, ливневые поты, синюшность, Мне опять называют сумму – как будто я глухой и не умею слышать несколько нолей подряд в долларах, – я молчу, глаза закатываю, дыхание чейн-стокс. Мне говорят: г-н, говорят, Генделев, платить будешь? Я бряк. Очнулся в реанимации с улыбкой на устах, мышления (нет! функцию утраты мышления я утратил, пускаясь в сомнительное мероприятие по реконструкции «мансарда Дев.»), навыков письма и счета в столбик. Последние, когда я увидел этот столбик счетов.
В процессе многократных перестановок куда-то пропали: либидо, креативная энергия «Чи» и «неотразимое обаяние подлинного гения» (Цветаева. Правда, об А. Белом!). Либидо нашлось. Отер пыль обшлагом, подул, еще потер, поставил на бетономешалку до лучших времен, есть не просит.
Остаточные явления ремонта дают знать, еще как дают. Молот дает знать, шанцевый инструмент, снится слово «плинтус» лазоревыми буквами. Сплю при свете. Один – боюсь. Аглая Светку терпеть не может. Прекратились, что характерно, неприличные, м... мда... эксцессы под дверью – доступ к ней вообще затруднен: леса, горы пиломатерьялов, так что постоять негде, не то что осуществить кладку. К слову сказать (см. репортаж «Страшная месть»), я, кажется, разгадал, озаренчески, смысл действий неизвестного злоумышленника... Это он таким способом размножается, это у него – наследственное... Озарение принято за рабочую гипотезу.
Душевная слабость и дезориентация во времени и пространстве привели к полному подавлению моей воли, которой я, как известно, славился. Так, я оказался в составе жюри конкурса авторской песни в Иерусалиме. Они называют это «каэспе». Я мало что так не люблю, как когда поют на гитаре.
Собственно, мой антироман с самодеятельной песнью начался лет эдак двадцать пять назад. И начался – со страсти: я начал сочинять тексты к песням... Петь я не мог, генетику заклинило: слуха недоложили. Ритм – да, голос – да – громкий такой, особенно когда ору, любовь к прекрасному – еще как, да! – певиц я, например, любил неоднократно, среди них попадаются очень приличные люди трудной судьбы. Я очень расположен к певицам. Люблю смотреть, как они, отложив гитару, делают что-нибудь! Вообще мне бы очень хотелось иметь певицу другом, женой, товарищем, сослуживцем. Но не тут-то было!
И, как следствие, – я начал писать тексты песен. Чудовищные, должен вам сказать. В одной из песен, ставшей, несмотря ни на что, довольно популярной, есть строчка «непутевы мессии». Остальные, незнакомые подробно с моим песенным творчеством, могут легко себе сами реконструировать и вообразить – какие это чеканные куплеты и филигранные припевы моей молодецкой работы.
Дрожь пробивает! Знающие меня легко себе позволяют воспользоваться этой моей слабостью: достаточно мне на ухо насвистать из моего юниорского прошлого – все отдам, лишь бы только не это! Тома моих партийных книжек отдам, галстухи-бабочка – все 34 отдам, поцелуй отдам без любви – нате, подавитесь, лишь бы не «корчит тело России от ударов тяжелых подков, непутевы мессии офицерских полков...». Однако, – в жизнь можно войти только один раз, и хотя войти в нее лучше автором и исполнителем «Общества Чистых Тарелок», репутации не поправить. Народ мудр, он лучше знает, что ему петь, и так ему и надо.
Песен своих стыжусь. Бедности, внешнего вида, плохого отцовства, неустойчивой моральности – тоже, но песен особенно. Ибо это – непоправимо.
Вообще же – песни я люблю несказанно и часто пою их вместе со всем центром города, в котором – центре и городе – живу. «Прилетит вдруг волшебник» обожаю, «Прощание славянки» пою раз по двести в день, Окуджаву пою почти ежеминутно. Один мой сосед-художник, тихий, деликатный человек, убил уличного певца с надписью, уже пять лет как не смываемой с фуфайки «Я now ole hadash me Ukraina!». Он спустился вниз, взял уличного соловья за гортань и сильно сдавил. Нет ему прощенья!!! Вот что я вам скажу. Это – как ребенка обидеть! Или книгу взять почитать! Какая грубость неделикатная, никак не ожидал от художника-станковиста. Потом пришлось долго извиняться, обещать поставить нового исполнителя, с такой же надписью. К счастью, все устроилось. Хотя я об этом жалею. Особенно отвратительно, по-моему, когда поют стихотворения, к этому совершенно не готовые. А поскольку петь на гитаре можно все что ни попадя, стихи великие от художественного пения жухнут до еле-еле средненьких, а стихи еле-еле вообще – можно очень даже душевно исполнить! Почему-то никому не приходит в голову дописать холст «Иван Грозный убивает сына своего царевича Иоанна за разговорчики в строю», но Мандельштама улучшить пытаются направо и налево. Может, Мандельштам с пеленок просился на музыку? И оставил в строках зазоры: «Я вернулся в свой город (траля-ля-ля), знакомый си бемоль, бля, до слез...»?! А ведь-таки поют. В розлив на двоих, на троих. Что хочут в народе, то и делают. Нет чтоб петь про себя хорошо приспособленные для этого песни души: «О Володе Высоцком я песню придумать хотел» или «Вбей в колено тоску-кулак» – но – встанут, набычатся, многозначительно глянут друг на друга и как грянут: «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» (слова О. Э. Мандельштама, муз. А. Друскинда)!!!
Короче, слабнувшая воля привела меня на представление. Не смог наотрез отказать. Можете себе представить – слева – Кукин, справа – Кукин: «Что-то, что-то не так – не так». Вот именно.
Полный, знаете ли, зал каэспе и поклонников... Больше всего я побаивайся, что жюри попросят спеть что-нибудь свое. В общем, сижу. В заляпанной спецовочке, внимаю гитарному звону... Слушаю хорошую туристскую песню местной работы (условия конкурса) и думаю левым полушарием: где я? где я? А правым полушарием: а чего ты, собственно, хотел, Генделев? Чем этот праздник слияния душ хуже мимуны? Чем гастроль старого моего знакомца Юрия Кукина, милого, мягкого, обаятельного человека за туманом, хуже гастролей эфиопского законоучителя с бубенчиком? Наши-то хоть костер, несмотря на туристский пафос, посреди зала не разложили... Ну и что, что эта алия суть эмиграция бывших совинтеллигентов в Израиль? А что, мединат Исраэль уж такая девушка? В смысле непорочности. И ей сионисты-халуцим кошерны, а выпускники лен-санктпетербург. ТМО – нет? За недостаточно восторженный строй мыслей и пристрастия? К реминору: и ностальгию по батону с докторской?
В конце-то концов, может, хватит ностальгии и моей – по тому самому Израилю? А? И будем есть, маше еш?
Ведь каждая конкретная временная ситуация по сути уникальна. Ну, не было прецедента – будет... Ну, не сталкивался Израиль с Такой Алией – столкнется. Снявши голову, по куку не плачут.
А что «еш»? А еш вот что:
Алия 70-х, в культурном смысле занимавшая промежуточное, тамбурное положение меж Израилем (как культурной целокупностью) и культурой России (представленной алией 90-х), полностью как субкультурная общность стерта. Точнее – адсорбирована алией 90-х, а еще точнее – вернулась под державную руку культуры Московии. Т.е. на площадке Израиля происходит процесс встречи двух больших (не в качественном, а в количественном смысле) культур. И места субкультуре, даже путаться под ногами и тянуть взрослых дядек за пиджаки, – нет. Причем в каком-то смысле можно говорить не о встрече двух культур, а о невстрече. Поелику русскоговорящая община страны самодостаточна, верней достаточно обеспечивается из-за границы – из Москвы. Свой культ, и духзапросы кадавр удовлетворяет полностью. Грубо говоря – русский Израиль сформирован.
Второе. Именно укомплектованность автономность в духовном и культурном смысле, генерализированность российского присутствия в стране позволяют предположить необходимость и возможность политического представительства.
Этническая партия – фи, скажете вы (и сказал бы я пару лет назад), фи, антисионистская идея!..
Конечно – антисионистская. Но у меня два контрположения, причем оба прецедентного характера. Этнические партии в Израиле есть! И представлены в «сионистском» кнессете: это ШАС и арабские партии. И второе – а кто вам сказал, что мы являемся сегодня сионистским государством и будем им являться завтра, особенно если завтра мы вообще будем являться, кроме как на спиритическом сеансе вызывания духа Израиля за круглым столом Объединенных Наций? Сионистским наше государство является сегодня по букве, но скоро будем – по духу. Причем скорее не по букве Декларации независимости, а по букве деклараций «Хизбаллы» и пр. дружественных партнеров по переговорам. Ладно. А если серьезно, так я вам вот что скажу: в новом Израиле жить – по новым правилам выть. И петь на гитаре. Третье: нас очень много. Кнессет отлично делится на 8. И получается вполне компактная партия. С правом и возможностью принятия решений в свою – т.е. в нашу пользу. В том числе и политических решений...
Так что вот беда-то какая…
– Успокойся, – сказало правое мое полушарие левому, продолжающему твердить: «где я?!» где я?!» – Ты на концерте авторской песни. Народной авторской песни. Русского израильского народу песни. Вбей в колено тоску кулак, маньяк казе! Отрекись, ялла, от ненужных слез, к...так!
Вы когда-нибудь делали ремонт? Так вот, после ремонта в доме происходит эдакая ревизия с целью выбросить множество грязных, ветхих или вообще посторонних (или ставших посторонними) предметов. Вот и подверг я ревизии некоторое количество предметов под названием «политический сионизм». На предмет нового ревизионизма.
Чу? Взрыв аплодисментов! Это благодарная публика «Русского центра» проводила со сцены очередного барда. Я бы озаглавил его сочинение «Рыба-хит». Но я промолчал. Чай, у самого рыльце в пушку – у самого хиты мало отличимы от рыбы. Хорошо, что не заставили спеть «непутевые мессии». Но – еще заставят.
А КСП – как каэспе. Кукин сказал, что даже лучше, чем в Тамбове.
ДАРЫ МОЕЙ ЖИЗНИ
Я люблю получать подарки, дары и подношенья. Понимаю, что нехорошо, но – люблю!
Природа моя такая, родился семимесячным, не залежался, жаден до халявы. Мне многое дарили: галстухи-бабочки (самый легкий путь к моему зачерствелому сердцу) дарили, костюмы с мертвого плеча неживых, но не любимых родственников дарили, детей – плоды любви дарили, кило помидоров подарили однажды.
Мне дарили ценные предметы, пытались всучить домашних животных, птиц и ящерицу («совсем ручная, с губ ест»), дарили велосипед, один раз – ишака, верней ишачку; один жену подарил. Мне пытались вручить в дар жесты («Хочешь, возьму сейчас и прыгну из окна?» – «Конечно, хочу, мой симпампончик!»), жертвы («Папа, хочешь, я к твоему юбилею буду меньше курить?»).
Один раз на день рождения в предместье Бейрута однополчане мне подарили убийство кота, который меня раздражал. В развалинах различного происхождения имели место неубранные, несмотря на теплую погоду 28 апреля 1983 года, трупы известного происхождения. И то, что не смогли откопать люди, откапывали мерзкие кошечки – «санитары руин». В общем, вышел на меня, человека невпечатлительного, однажды такой мурзик с пятерней в зубах. Заметив, какое впечатление, тем не менее, это произвело на «русского доктора», один из санитаров выследил «кис-кис-кис» антропофага и бабах! (Извините, спасибо за внимание.)
Так вот: ценные предметы культа дарили, мумие дарили, была попытка втюхать через не хочу архив доныне живой поэтессы, шкурки дарили, невинность приносили в дар, причем интеллектуальную в том числе, дарили знаки и дурные приметы внимания. Очень многое мне подарили минут и мигов: близости, экстаза, прозренья, озаренья, ясности, неземного блаженства, земной незатейливой радости бытия, горечи, пакостного самочувствия. И годин невзгод.
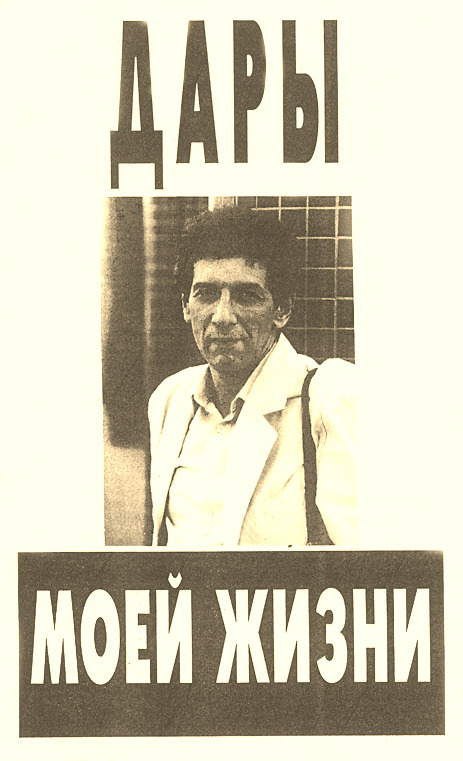
Многие положили на меня жизнь. Отличный подарочек. Выползал, как мог, из-под глыб, проходил реанимацию, тяжкий период становления, покой мне только снился. Некоторых даров я просто, как честный человек, не мог пережить. Сколько мне предлагали посвятить, если я только соглашусь прочесть и проникнуться! Дважды прокалывался, давал слабину. И что? Увидел в печати – один раз с посвящением И. Бродскому, второй раз с посвящением А. Пугачевой «с признательностью за щедрый талант».
Открою Музей Подарков: том художественных стихотворений поэта Льва Ошанина (экснострис! Мишенька...) с автографом дяди Мануши «Учись, племянник, подлинному мастерству»...
Подношение от курсантов Института литературы им. Горького, царство ему небесное. Яйцо пасхальное расписное с монограммой «сложному, но интересному человеку (с маленькой буквы) и лектору» (я там читал лекцию о русской поэзии, современной мне, пролетом из Израиля в Париж. Яйцо я через пару лет съел в тощий год). Адреса дарили. Дарственные. Четыре шт. Причем все четыре приносили на дом. Первый адрес – куда звонить в случае сексуальных посягательств, второй – куда отправить 10 шекелей, чтобы скорее заработать сто тысяч рублей. Как одна копеечка путем невзаимной переписки. Третий адрес – благодарственный от сотрудников, правда, фамилия там была не моя указана. Подсунули под дверь. Дело в том, что предыдущий владелец мансарды преставился, но сотрудники об этом не знали. Хороший теплый адрес. Четвертый же адрес я получил от Бахайского Храма в Хайфе, куда забрел по рассеянности, – я оказался его стотысячным посетителем, в честь меня посажен розовый куст. Меня включили в гимн.
Многие подарки я недополучил. Я не получил в подарок элегантный столик под телевизор, если я приобрету четыре предмета по прейскуранту на сумму свыше 3700 шекелей. Причем наоборот – они не согласны, как я их ни уговаривал и даже грозил столиком.
Я не получил в подарок путевку в Эйлат (полупансион в отеле пять кохавим), если я застрахую свою семью. (Я бы мог с легкостью получить три таких путевки, все как-то наперекосяк пошло...)
Один из лучших подарков мне пообещали, если я распространю «Гербалайф» повсеместно. Мало того, что я смогу, доложив об исполнении поручения по команде, – есть «Гербалайф» сколько влезет, но я еще и смогу безнаказанно украсить дом изумительным календарем с монголоидными старшеклассницами в одних трусах! Или я что-то путаю и это мне пообещали в обществе охраны природы? И значок про теву с гюрзой.
Все, что дарят, надо хватать сразу – а то я недавно замешкался и недополучил майку цвета тюркиз. Дело было так. Иду по Бен-Иегуда, говорят «подпиши». Это как раз рядом с переносным киоском, где я обычно по пятницам уворачиваюсь от здоровенных мужиков, пытающихся наложить на меня филактерии – тфиллин, грят, накладывали? «А как же», – говорю. «Не верю!» – говорят молодые энтузиасты с ремешками наперевес... И смотрят, так добро и проникновенно... Сам видел, как поймали пожилую японку, стреножили, она очень благосклонно смотрела на манипуляции этих милых молодых людей (опять же – бесплатно). Так вот: майки дарят! Покажите мне, кому не нужны майки цвета тюркиз?! Мне необходимы, причем к лицу. Встал в очередь, где все просто: ты подписал, тебе за это майку, новое. Впереди в очереди два генеральных директора и один генеральный дистрибьютор из Мариуполя третий раз подписывают, ветераны поделились, что – раньше это было – еще и кепки бейсбольные давали... «Что подписать-то? – говорю. – Может, закон какой в кнессете о правах трансвеститов или чтоб не мучить ньюфаундлендов? Или полную свободу Иоси Сариду?»
«Не, – говорят. – Мы за неущемление прав гронху».
«Хорошее дело, – говорю (а сам думаю: «надо бы подучить иврит»). – Не надо ущемлять права гронху, а кто это?» (Йеху знаю, а гронху – нет).
«А это такие специальные люди в Пакистане, они считают, что они потерянное колено Палестиново, а гос. чинуши не дают им право на въезд в государство».
«Безобразие! Всем дают, а этим... гронху. Нет?! Непорядок, дайте смело – подпишу. Кстати, а племя-то большое?»
«19 миллионов. Приблизительно». Я, конечно, подписал. (У нас столько потерянных колен, что складывается впечатление, что Израиль был когда-то членистоногим.) Чем 19 млн этих... гронху... – хуже их с нами? Почему бы им, немножко конечно, не пожить в Палестине? Я знаю отличное место, где их могли поселить. Здоровый воздух, вид на Наблус, а что? Они непритязательны.
А майку цвета тюркиз я недовзял в подарок... На ней была изображена территория без нашей страны в натуральную величину. На фоне территории улыбчивые – были как живые – изображены... Ицхак, Шимон и... гронху. Я его сразу узнал по куфие на щитоморднике и по Закону о возвращении... И пока я не брал майку в подарок, они – все как одна цвета тюркиз – кончились.
Дары надо хватать сразу.
А еще у меня полный дом подношений. Полная чаша. Есть два типа подношений. От страха и от чувства глубокой благодарности, что не прогневался.
К подношениям мне первой категории относятся: филигранной работы шкатулка Пандоры, сифон ледяной цикуты на коньяке (от благодарных читателей «Эха») и том российской Еврейской энциклопедии, где нет ни одного моего уважаемого коллеги, но зато есть поэтесса Д. Гарнизон и венцы: лавровый, терновый и дубовый с фоткой в центре. Ко второй категории относятся: пук бессмертников, бак со столетником и компьютер, на котором я не умею печатать, но зато обожаю фотографироваться на фоне его дисплея, к которому раз и навсегда прилип какой-то армянский шрифт, хотя я его обесточил.
С фактом существования многих даров я столь свыкся и стерпелся, что не обращаю на них никакого внимания, покуда они меня не достанут.
Мне даром досталась в дар страна, сочащаяся молоком и медом. На халяву. Собственно говоря, молоком энд медом сочатся также штат Айова, Земля Шлезвиг-Гольштейн и пос. Парголово, но хотя Мединат Исраэль сочится не в пример скуднее – я свое отсосал. За 17 лет жизни в этой стране я уже скопил на творческий отпуск, т. е. на возможность сесть и, не думая о том, где позавтракать в начале отпуска до ужина водицей и чернухой насущной днесь, подумать о вечном и подготовить к печати 6 неизданных книг стихотворений, книгу сатир, эпитафий и эпиграмм «Обстановка в пустыне», книгу «Статьи и памфлеты», книгу «Генделев и Генделев», книгу политических эссе, книгу «Писем нерусского путешественника», кулинарную книгу «Общество чистых тарелок», 2-й (почти законченный) и 3-й (наполовину написанный) тома романа «Великое русское путешествие». А также – томик переводов «Малой антологии современной ивритской поэзии» и комментированное издание поэтических переводов Шеломо Ибн Гвироля, затеянное и частично (в соавторстве с П. Криксуновым) подготовленное лет 10 назад.
И все это надо успеть за творческий, мною оплаченный отпуск с легкостью и присущим мне изяществом за свой счет. Что я, конечно, обязательно обещаю выполнить посмертно.
Потому что никаких грантов, фондов, стипендий и тому подобных наследств для осуществления этих вольных упражнений необязательной программы им. М. С. Генделева не предусматривается никаким бюджетом, как в принципе и факт моего 17-летнего существования на молоке и меде.
И в этой связи – с особым чувством наиискреннейшей благодарности я сообщаю Диане С. из города Нацрат-Илит, чье письмо («в редакции не вскрывать!!!») кончалось следующим трогательным пассажем: «Я желаю тебе удачи, Михаил Генделев. Высылаю чек. Выпей водки, с кем хочешь. Я тоже выпью за твою удачу». Диана! Чек я сначала решил повесить в рамку у изголовья. Но потом все же... М-да. За тебя, Диана С.! Спасибо.
ДЯДЯ МОЙ АБРАМЫЧ, ИЛИ ЧУМА
НА ОБА НАШИХ ЧУМА
У литперсонажа «Михаил Самюэлевич Г.» – родственников живых не бывает. У него бывает историко-литературный генезис, и папа в физическом смысле это отнюдь не автор, а скорее местный бог. Вы можете себе представить бога микробов? Или верховное божество пантеона вирусов? Можете. Так автор – это что-то наподобие.
У меня всегда был любимый дядюшка. Сколько себя помню. Мама округляла глаза, бабушка, царство ей небесное, шипела (недобродушная была особа), папа хмуро смотрел на дверь нашей комнаты в коммуналке на Марата и тыкал пальцем в оплетенную тряпочками и на роликах из фарфора проводку на потолке; там по нашему разумению находился советский север, Полярная звезда и, соответственно, Магадан. Дядя у меня так и проходил по разряду «Магадан», и щепетильную кондитерскую «Норд», где тети, интеллигентно отвернувшись от публики, обирали невкусную «картошку» («ребенку только эклер, он возбудится – от картошки, там алкоголь». Не очень-то и хотелось!), я вселюдно и при свидетелях звонко аттестовал Магаданом: еще бы, в витрине стоял фаянсовый белый арктический медведь, ростом с меня, в валенках!
Дядя сел в возрасте 15 лет, совершеннолетие справлял в трюме («а в трюме сидели зэка, обнявшись как родные братья» – это приписывают Н. Заболоцкому. Дядя высказался короче пару дней назад во главе стола в моей иерусалимской мансарде: «Хорошая пытка, вам рекомендую»). Сел в 35-м («как Мироныча похоронили, так за мной и пришли») и вернулся в 57-м. Весь в веселых молодых золотых зубах, в бурках и кожаном реглане с седым полковничьим каракулем и подштопанными дырами от пуль (последние два года копил, трудясь по найму, уже ссыльным). Мама очень непоказно боялась его дурного влияния на ребенка. По всей видимости, не зря, кое-какие слова я сразу выучил. Сказать, что я пошел в дядюшку, – это впасть в преувеличение. Я никогда не мог поднять одной рукой рояль (он после этого почти не отличался от доподъемного, но басил), а сравниться с дядюшкой Абрамычем на предмет выпить и покадриться смог только перед самым отъездом в Эрец Исраэль, что дядя, как и самый отъезд, единственный из родни одобрял.
О том, что дядя мой идеал, папа догадывался, однако вслух заговорил лишь по обнаружении у меня при домашнем случайном обыске самиздата: Солж, Цветок Персика, Тропик Рака. И перепечатка Мандельштама. «Статью Абрамыча знаешь? – страшно орал папа, а мама косилась на тонкие двери двухкомнатной отдельной хрущевки, где мне, по мнению родительской совещательной тройки (и бабушка!), придется досиживать срок от и до институтского звонка при принудительном конвоировании на отработки... – Статью Абрамыча знаешь, щенок?» И папа чеканил: «58-1! Такую же захотелось?!!»
Короче, дядя Абрамыч был идеал. Какой-то не минимальный авторитет у дяди имели только три персоны: Райкин Аркадий Исаакович, Бен-Гурион и моя мама. Женился дядя обильно и с удовольствием на крупных славянских дамах, обязательно членах партии и с положением в АХЧ. Разводился он широко, отсиживаясь в сторожке многих садоводств, которые доставались в приданое следующим дамам. Уже одного этого шика было достаточно, чтобы я дядю обожал. Ржал дядя как ломовик, скаля свой вечномолодой металл, обожал редьку в меду, предпочитая коньячку. Коньячок вообще предпочитал. Работал строго снабженцем, для чего, к изумлению родни, лет уже под шестьдесят окончил вечерний техникум.
Блеск, одним словом. Отлично.
Катастрофа уж раскрутилась на всю катушку, тектонические глубины сотрясались, вулканы трубили, разверзались бездны, я, как водится, ничего не замечал, ибо не знал. Открыла мне глаза мама три года назад.
– Михалик, – сказала мама, – сядь, мне надо с тобой поговорить. Сынонька.
«Так, – подумал я (дело было три года назад), – так, начинается. Мама узнала о моих шалостях пары-другой десятка лет, которые я позволил себе, выпав из-под пытливого материнского надзора с точки зрения г. Ленинграда Ленинградской обл. в г. Санкт-Иерусалим...» Так, придется сознаться во всем:
а) Признаю факт своего развода с Л.;
б) Признаю факт своего отказа от благородной профессии добрые руки врача;
в) Признаю, и это маму покачнет, – факт своей женитьбы на Т. (я не знал, что это не- надолго...);
г) Признаю, что приличный статский пиджак для появления под строгие материнские очи – это почти ненадеванный и перелицованный совсем чуть-чуть жакет моей новой тещи, благо мы с ней одного возраста и степени социальной неуязвимости. Колюсь.
Мама спокойно выслушала мои признания.
– Михалик, – сказала она. – У дяди Абрамыча крыша поехала.
Я удивленно посмотрел на мать. Лексикон ее, с момента моего отлета в 77-м, изрядно обогатился.
– Ну? – спросил я. – Дядя опять на гойке женится?
– Если б. Ты его скоро сам увидишь.
– Ах, – сказал я, – надо было не жадничать в дьюти фри, а покупать пинту. Или галлон. В общем – четверть... Когда он прибудет?
– Тебе бы лишь кутить, – вздохнула мать. – Абрамыч едет к тебе.
– Куда? – спросил я на инерции вежливой эйфории, но начиная догадываться. – Он что?
– Да, Михалик! Ему 75 лет. Недавно юбилей отметил со своим производственным коллективом. Коллектив еле откачали. Он плохо слышит.
– Коллектив? Они что, метил пили? Мама, ты путаешь, они плохо видят.
– Дядя, твой! Он едет к тебе на историческую родину, сынонька. Он оставил семью за несионизм. Хочешь корвалол? – Мама отлила своего корвалолу и вдруг произнесла, как тост: – Бе шана абаа бе Йерушалаим.
По-моему, я перекрестился.
– Мама!!!
– Да, я здесь.
– Мама, а что он собирается там у нас делать?
– Строить дом. Для тебя и твоих детей. И мой склеп. Он хочет забрать меня к тебе.
– У меня детей на родине – одна. И я не хочу твой склеп, мамочка. Давай ты поедешь, а дядя останется, а?
– Ты же знаешь, что я не поеду от родных могил. У меня гипертония, а у вас жарко.
– У нас, мама, кондиционеры, – соврал я. – Но у нас тепло, это верно. Слушай, а может, дяде показаться м-м... м... специалистам... У меня многие сокурсники вышли в люди. А? Подлечат...
– Он плохо слышит. Он плохо слышит любые возражения. Он едет открывать филиал собственного советско-шведско- и скоро -израильского предприятия по торговле шпалами. Вам нужны шпалы?
– Очень. Мама, я должен с ним поговорить! – Голос мой, сиониста и патриота Израиля, неприятно дребезжал.
– На первых порах он поживет у тебя, – перечисляла мама мерно и явно медитируя. – Он сказал, что сможет снять у тебя пару комнат или веранду. Или угол. Ты будешь рад дяде. Он так говорит, а в ответ – не слышит.
– Особенно веранду и особенно – угол. – Я представил себе свежего нового репатрианта, бодряка-дядю трех четвертей века, у себя, в мансарде. На первых порах. Из сионистских соображений.
«Три четверти века я, конечно, не протяну. Мельчает фамилия», – вдруг подумалось мне, мысли приобрели медвяно-багровый оттенок, я хлебнул корвалола.
– Какую мерзость ты пьешь?!! Шлимазл! – зарычал дядя, выдавив, по-моему, дверь.
В одной покрытой узнаваемым серым каракулем лапе он нес елку ростом с сосну (дело было к сочельнику), во второй на отлете – 16 кг напитков. И батон докторской. И апельсины.
– Шалом, – рассеянно сказал я.
– Закусь я принес! – не обратил внимания дядя. – Я еду! Куцгерет! Асенька, распорядись.
– Барух аба, – сказал я автоматически.
– Я не буду тебе обузой, – высказал интересную мысль Абрамыч. – Я полезен и еще ничего, могу собирать апельсины!
«На моей веранде», – молча подумал я.
Дядя собирал апельсины и запихивал их в золотой рот. Как Аполлинер, с кожурой. Я помотал головой, отгоняя морок. Морок не отгонялся.
«Эхад, – быстро считал мой мозг застарелого сиониста, – у меня есть кое-какие знакомства в посольстве, фиг он получит визу!»
– По системе бекицер! – возгласил, не слушая моих мыслей дядя, разливая «Грейми» по фужерам. – Виза у меня есть!
Я поперхнулся.
– Виза у него есть, – сказала мама, смотря на меня как на коклюшного.
– Штаим, – прошептал я, отдышавшись, – а развод?! Ты же женат на тете Дарье... э-э-э как ее, Ульяновне? Тебя же не выпустят!
– Я все оставил этой стране, – услышал меня дядя Абрамыч. – Хватит, попили моей крови, пора к родным осинам! Есть у вас там осины? А то мы поставим вам осины по бартеру, если напряженка.
«Осина – это интересно, – подумал я неторопливо и выпил. – В конце концов – и это выход»... Мама протянула мне гефилте фиш, я съел, хотя терпеть не могу. Мама удивилась и еще пуще расстроилась.
– Лехаим! – часто взревывал дядюшка.
Дядя влил в себя пинту... Или галлон... В общем – четверть.
– Я выучу идиш! – орал он, не слушая моих возражений.
Впрочем, я не возражал. «И я выучу, – подумалось мне. – И айда я в Бруклин, от греха подальше. А что? Там тоже израильтяне живут... (В этот миг я позабыл, что даже молодожен, так скрутило). Сменю фамилию. Утром встал, помолился на восток, где мансарда за океаном, и – бесейдер. Тоже жизнь...»
Дядя пел, блестя зубами и глазами, «Эвейну шолом алейхем», норовя увлечь маму в пляс. Мама оборонялась палочкой. Вечер, как говорится, удался.
Я пустил в ход правительственные связи. Я скопил денег и послал дяде слуховой аппарат.
– Пришли труды Бен-Гуриона! – накалял мне трубку дядя Абрамыч. (Коллект.) – И спроси, не нужны ли плахи из пихты?! С предоплатой. Слушай мать.
Мама вздыхала в телефон. Шли годы. Три года внешнего покоя, под которым все бурлило. У меня были знаменья, и предчувствия, и знаки.
Дядя в каждый мой кавалерийский рейд в Ленинград (Санкт-Петербургской железной дороги) аккуратно появлялся у мамы с коньячком и громко рассказывал нам об апельсинах, которые он будет собирать со своей местной невестой у домика на берегу Петах-Тиквы, который дом он построит для меня, мамы и моих детишек. Все как-то утрясалось, я успокоился...
Позавчера меня поднял с только что отреставрированной постели пожарный звон телефона. В четыре утра.
– Я на родине! – грохотал дядя Абрамыч. – Какие здесь у вас бюрократы! Стыдно за Бен-Гуриона. Ничего, я таких по зоне бушлатом гонял. Я их всех тут построил, поняли по-русски. Мне говорят: «Хотите на север?» У них это юмор?! Я им говорю, – ревел дядя, – «Север не хочу. На Севере я уже был». В общем – на родине. Привет от мамы, она нервничает за нас с тобой.
– Мама, – прошептал я, – мамочка...
– Да! Совсем запустил мать, – понял дядя. – Я построю ей дом!
– Дяденька, где ты? – спросил я по-детски.
– Еду к тебе! Шофер уже начал, хам, понимать по-русски. Так, ты выяснил, как тут с плашками? Хорошая плаха, пихтовая, активированная.
– Плаха нужна! По бартеру, – не закрывая глаз, строго сказал я. – Жду.
Дядю я обожаю, жаль только, что завтра я отбываю в Санкт-Петербург. У меня, знаете, образовалась срочная служебная надобность. По крайней мере на три месяца. А что?! Везде люди живут. На Юге... На Востоке... На Севере. Особенно на Севере. Долго. А плахи – нужны. А дядя – очень понравился моим друзьям. Аглая от него без ума.
– Хорошая мансарда! – сказал дядя, без одышки взбежав по всем 195 ступеням, ведущим к моей гробнице. – Хорошая, вам рекомендую.
С собой, я решил, возьму самый минимум. Сменку белья. Бурки. Кожаный реглан с каракулем – решил взять в первом же бою, штопка от пулевых будет не заметна ничуть.
Вставлю зубки, буду как дядя. И пусть у вас отсохнет правая рука, если я забуду тебя, о, Иерусалим!
НОВОГОДНИЕ СТАНСЫ, ИЛИ
ПАССАЖИР, СЛЕДУЮЩИЙ ПО КОЛЬЦУ
Если с елкой, упакованной «а ля недорогой покойничек», на плече, спуститься в подземный мир предновогодний и, вибрируя по Кольцевой на перегоне «Октябрьская» – «Парк культуры», сейчас, именно сейчас, когда взгляд уперт в формат «Окон», перевести этот постепенно концентрирующийся – видоискатель – взор – прицел – мишень – пли, я не сомневаюсь: он отскочит рикошетируя – взгляд! Он безусловно не будет богат, этот господин, обособленный пассажир метрополитена им. б. Лазаря Кагановича... Он узнаваем, о!
Кто он? Шелковая эбеновая нездешняя сорочка, драгоценный фуляр. Зонт с него ростом, если сидя. Одна щека мертвая, другая пока нет. Реглан с золотыми наполеоновскими пчелами подбоя. Кто он, этот – с позволения сказать – господин? Если его тронуть за плечо, он, с видимым наслаждением совершающий одновременно кучу манипуляций (зажев любимой воблы, одобрительное кхеканье при просмотре любимой газеты «Завтра» – «День», перебор пальчиков любимой женщины слаавянского вида – вдвое выше его ростом, если даже сидя), он (если его посметь тронуть за плечо) вскинется и легко не у знает вас, мой израильский читатель.
Ибо кого-кого, а вас – он не ожидал увидеть воочию!
В отличие от: вы – его.
Иногда меня посещает неприятная, типа в коньках по сухой ванне мысль. А собственно, кто возвратился из Москвы из нас – автор или персонаж, кукловод или картонный герой?' Потому что «сердце мое на Востоке, хотя я на Западе сам…» («Либи б'мизрах у анохи б'соф маарав»), как писал какую-то тыщонку лег назад незабвенный Абу Альхасан Иегуда Шмуэль Галеви, по-видимому, предвосхищая именной мой случай…
Он там, в предновогодней Москве, мой полуавтор-полугерой, и для него елка пахнет мандаринами (а не наоборот, – бехайеха!), и на его мертвой скуле не тает рождественская снежника, которая только что растаяла на моей живой с новым, тысяча девятьсот девяносто пятым годом московского счисления лет, вот уж не думал, что доживу.
В отличие от вас, мой драгоценный читатель, у меня в отошедшем с миром девяносто четвертом было полно подвернувшихся поводов и старинных способов не дожить.
Ведь я, т.е. мой автор и мой персонаж – мы принадлежим к особому племени виктимов. Но уж поскольку с некоторой обреченностью любая заводимая мной речь возвращается почему-то ко мне – любимому, не станем нарушать хорошей традиции и поговорим о нас – виктимах, легко, свободно и раскованно.
Мы – мы есть в каждом классе (в буржуазии, в классе парнокопытных, в классе 12.000 кубиков и т.д.). и любой школе (раб. молодежи, Ландау, профсоюзы, школа акмеизма и т.п.), в любой трибе – куда ни кинь.
Народ, с присущей всем идиотам наблюдательной меткостью или меткой наблюдательностью, определил нас как «тех, кого и в церкви бьют». В прозорливости своей известно какой народ, полусовместив отчетливо антисемитскую подсознанку с благодушно филосемитской сознанкой, наблюдательный такой народ имел в виду нас, нехристей известно какой нации, как всеобщий тип развитого шлимазла, средь которого очень хочется раззудить плечо.
Нас, т.е их – бьют не только в церкви (между прочим, тоже не самое тихое место), на энтомологической конференции и в немом кино – но и в жизни и в литературе. Бьют.
Не хотят, но лупцуют, отвешивают пенделя.
Не огреть нас нельзя: у нас повышенная виктимность. Есть такой юридически криминологический термин, спец. определение способности жертвы стать жертвой.
Притягивая и стимулируя, провоцируя и поощряя интерес насильника.
Преступник и виктимка, чудовище и аленький цветочек, волк и кипа адума безошибочно находят друг дружку в вокзальной толпе, в темном парке, на страницах печати.
Бандарлоги почти в сладком восторге, обалдев (а на самом деле выполняя свое подлинное жизненное предназначение) от удовлетворения желаний, маршируют в пасть Каа.
Сонечку Мармеладову очень хочется с особым цинизмом. т.е. сначала в особо крупном размере, потом, естественно, покаяться и, лишь отстояв всенощную… но! да.
Более того – ибо в нас спят в палач и жертва, по очереди просыпаясь, – нас, виктимов, нередко тянет насладиться самоедством. Причем акт самодегустации затягивается, то, что есть совесть, становится грозным орудием, а страстное копание в себе приводит к полной расчлененке. И, как это бывает в полночи, как это бывает, с отвращением листая жизнь свою, как это бывало, тянет – поступить.
То есть попросту – сначала опять-таки насладиться, а потом все-таки задушить по возможности с особым цинизмом…
Виктимность не прикрыть камуфляжем, не прикрыть, как солнце ладонью. Например, моего старого многолетнего друга, члена муниципалитета Ларису И. Герштейн на любом сборище от суаре до вокального концерта обязательно находит какая-нибудь старенькая сумасшедшенькая девушка с колокольчиками, запихивает в уголочек и мучает историйкой своей неприглядной жизни. И – Лариса Иосифовна – дама, мягко говоря, решительная – стоит не пикнув, в глазах тоска, но не бунтует. И может так стреноженно простоять часами.
Это виктимность.
Нет нужды педалировать садо-мазохистский характер феномена повышенной жертвенной воспаленности, сегодня ленивый не снял худ. фильма-мюзикла по сценарию от «Ночного портье» до «Адам бен келев», от чего меня лично тошнит. Не следует и кратко останавливаться и долго топтаться на ритуально-карнавальных образах Иова, Паганеля, Дуремара, Пьеро, Великого русского интеллигента, капитана Фракасса, ослика Иа-Иа с их холодной философией и переносным алтарем – колодой для забоя. Отметим лишь, что Иисус должен был быть предан и распят, Сахарова должны были сослать в Горький, а меня должны были ограбить глухонемые налетчики по пути из ресторана ЦДЛ. Причем, хотя нас было двое и мы оба пытались no методу сурдоперевода объясниться со странными, корчившими гримасы людьми, мычащими страшно, брызжущими слюной и толкающимися в плечо стальными руками, – бумажник был отобран у меня, а не у корреспондента Ассошиэйтед пресс Сережи Шаргородского, что дало ему повод (когда немые налетчики молниеносно снялись и отъехали с заляпанными номерами) киснуть от смеха еще битый час.
Кто, кто он, этот господин в реглане, в панбархатном жакете «Carnaval de Venice», в ботинках на высоком рифленом каблуке с белыми торцами, со спокойным выражением зеленовато-смуглого лица?! Почему он едет в вагоне метро по Кольцевой (почему? почему?! Потому, что после ограбления с изъятием всей налнчности – надо экономить в вагоне скрипящем и визжащем) в снятой со всей Турции кожей – нет на Москве пассажира, не обутого с ног до головы в недорогую шкуру тур. бычка – весь состав кожемяк не одобряет хабитус странника: и то, что на замшелом животе фальшивый брегет с поддельной цепочкой, и то, что жует он воблу с наслажденьем, и то, что не при…ться с целью обидеть к нему способен только какой-нибудь святой типа Сант Себастьяна или св. Амвросия. Будет земля им пухом, тоже виктимы изрядные были, по всему видать.
Короче: вернулся я в облике героя, под полумаской М. С. Г-ва в родные пенаты. Изгнал постояльцев мансарды своей, обустроился. Корни пустил. (А тот, кого в церкви бьют, он, сердечный, пусть себе едет, и дальше запущенный по кольцу его кармы, пусть его… Он еше отловит своего, не залежится…)
Пустил я корни и раскинул педипальпы по сторонам, включил чувствилиша. Приник к средствам массовой информации, слух мой отверзся. И открылось сердце мое для страдания и сострадания к болям и бедам народа моего (прозванного за неистребимый оптимизм и абсолютную необучаемость и утрату нац. памяти вечным). И отверзлась душа моя проблематике политического бытия страны моей, прозванной мировым общественным мнением, прогрессивным человечеством, гоями и прочими миротворцами в чадрах – Палестиной.
И я – убежденный виктим по призванию своему – сел за письменный стол с видом на небо Иерусалима б. неделимого и – и... Да, вы уже догадались.. Прочел статью-другую о мирном нашем урегулировании. Интервью генералов наших на кровавой мостовой после шиитского очередного теракта. Нобелевские речи прочел. Все три, очень за душу взяло, долго не отпускало. И вот что я вам свое скажу, верней не свое спою:
«Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Василевский айленд
я пойду умирать».
Потому что мы – виктимы. Весь наш могучий огромный пара другая-миллионный народ израильтян, временно проживающий на оккупированной нами территории г. Палестина, арабской области Исламского мира.
Потому что мы – виктимы. т.е. те, кого в мечети бьют.
Потому что те, кто отдает Голаны даже тогда, когда их об этом не просят, – носят палевые жилеты в московском метрополитене.
Потому что одно из двух.
Или мы не будем носить фуляры и отвлеченное выражение полулица в обнимку с вызывающей блондинкой в предпразднично-угрюмопьяном поезде гойского, т.е. неизраильского мира, или мы пересядем в свой поезд, где все такие, как мы. А вот если мы сами не пересядем в такой спецпоезд, за отсутствием сего идеального состава, то (по причине персональной своей неутрагы спецнацпамяти я помню, куда отходят поезда «сегодня и ежедневно») нас пересадят.
Ну не может же быть целый народ – жертвы, целая нация виктимов! Ну это ж воще! Или не воще? Или это в крови, это генетика? Это как шахматы, скрипочка, плоскостопие?
С Новым нас годом, дорогие виктимы, товарищи коллеги по мирному нашего урегулирования кафкианскому процессу.
С Новым нас счастьем… А знаете, единственное, что меня утешает, исходя из вышеизложенного, так это наблюдение, вернее – самонаблюдение вполне интимного свойства: вот ведь дожили до судьбоносного одна тысяча девятьсот девяносто пятого. Дожили. А вполне могли бы и не.
Это милый праздник, Новый такой год.
Дай Бог не последний.
И мандарины пахнут елкой. И пожалуйста, не следует подходить к моему герою, что перебирает пальцы любимой, почитывает российскую периодику и обязательно забудет при выходе из вагона свой гигантский зонт. Не надо подходить к моему герою, чтобы тронуть его за плечо. А то он посмотрит на вас с неблагодарностью. Возможно, и с испугом.
Они, виктимы, неблагодарные существа. В отличие от нас с вами.
ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
Как и всякий стареющий аристократ духа, я терпеть не могу аристократическую компанию, ровесников-старперов.
В крайнем случае я уж предпочту компанию значительно более старших товарищей, ватиков на этой земле, – приятно все-таки смотреть на руины.
А вообще-то я в эндшпиле с молодежью, я люблю наблюдать их высшую и среднюю нервную деятельность, подкручивая седой ус: «Если бы старость умела, если б еще и могла...»
А молодежь меня любит во всех своих проявлениях. Она любит навещать мою мансарду, заночевывать там, питание употреблять с аппетитом, оставляя после себя знаки внимания: немытые тарелки, лифчики, детей, чувство глубокой удовлетворенности, пустой холодильник.
Приятно в знобящий зябкий полдень шабеса встать как штык спозаранку и обнаружить у себя под балдахином молодежь.
Я ей говорю: посуда говорю – раз; влажная уборочка чтоб – два; сохранение в неприкосновенности бардака моего литнаследия на столе и прилегающих плоскостях – три; женихов, этих кобелей, ко мне в дом не водить – четыре. Вольно. А я пойду на предмет наличия царицы-субботы, нарушать ее святость в Старый город, кофе купить как человек: не суббота для человека, а человек – это звучит гордо.
Испивший утреннего кофию человек! Р-р-разойдись. Аглая назначается дежурной по части.
И пошел я в Старый город, который я терпеть не могу не только потому, что он Старый, но и потому, что неприятно обитаем, против чего я, откровенно говоря, возражаю, но это мое личное дело. Хотя, если разобраться... Но – очень хочется кофе. Почему-то по шабесам.
 Недолюбливаю я нашу жемчужину трех религий за некоторую самаркандность, за пластмассовую экзотику и за отвратительное ощущение себя японским туристом на нашей исторической родине.
Недолюбливаю я нашу жемчужину трех религий за некоторую самаркандность, за пластмассовую экзотику и за отвратительное ощущение себя японским туристом на нашей исторической родине.
Вожу туда с обязательностью троллейбуса всех гостей из СНГ: направо пустой Гроб, налево Храм Христа-за-пазухой, прямо – брандмауэр неаутентичных подсобок нашего с вами Храма, все в слезах, особливо наблюдая мечеть Омара вместо Святая Святых (прошу со своим ковриком!). Кстати – в цоколе минарета якобы могила царя Дауда... А вот и Кремль, с понтом возведенный народным нашим героем Сулейманом, прозванным за истребление семи десятков собственных детишек мужеского полу – Великолепным. История, одним словом.
В которую лучше не заходить по пояс, а наблюдать ее с какого-либо замечательного возвышения, со смотровой площадки резиденции британского губернатора... Планируя широкомасштабную операцию по усмирению бунтующих туземцев – совсем распустились, никакого уважения к долгу, – несите, товарищи сагибы, бремя белых.
Эх, были времена, эх, были нравы.
Но очень хочется кофе меж тем.
Вхожу я, значится, в Яффские ворота. Я бы, конечно, предпочел в Золотые, но их замуровали явно в предвкушении меня на белом (-ой?) осляти и специально, лукавцы, кладбище подстелили – якобы я не могу по трупам... Что в сущности – верно, магометане меня знают. И зовут «Мишка Бич Б-жий». Въезжаю я в Яффские ворота, раскланиваюсь с солдатиками пограничной нашей стражи (у нас теперь граница везде, слава Аллаху. И – наша граница везде – везде на замке, поэтому замки каждый носим с собой), ободряюще киваю унтер-офицерам, паркую ослятю, беспокоясь, как бы ей не повыбивали лобовые и не ободрали шасси местные хулиганы, которые теперь называются не урла, а бойцы ФАТХа – по причине полной безнаказанности боевых своих действий.
Долго, с садистским удовольствием смотрю, как обувают залетного богатенького туриста из – судя по хабитусу – Самары. Он покупает раритеты и иудейские древности: святую нашу воду из святого нашего водопровода; святой наш воздух в святой банке из-под пива, святой наш краеугольный камень (наш бут!) из святой нашей Голгофы, святой кусок подлинного еврейского нашего креста; Миланскую нашу плащаницу с подлинным фотоизображением одного моего знакомого в фас и мелко-уголовный полупрофиль с надписью по-арамейски: «Wanted»; отпечаток правого полусреднего копытца коня Бурака; маген-довид из мельхиора с оркестром (хорошей рамальской работы); кипу, связанную святыми арабскими руками ручного труда по-черному; и – полный доспех бухарского еврея из книжки Элиягу Ильфа и Гидеона Петрова.
Мне сразу очень хочется поучаствовать и предложить ему приобрести мой венец терновый, увитый лаврами и сельдереем. Чтобы носил поверх татуированного нимба – он таки-да, навестил Святую Землю! Он побывал на родине земли предков. Хотя Неандерталь, по-моему, немного западнее от Самары, смоль, ямин и тамших яшар! Ад а-соф!
Но паломник – он и есть паломник, он большой неудачный ребенок-даун, что с него не взять. У меня начинает чесаться под моим замшевым бронежилетом: зная, куда иду, я принял обычные меры личной безопасности каждого гражданина нашей страны в последнее время, если он местный, но огнемет в этот раз на дело я решил не брать, ограничился и парой гранат-не-пустяк. Сам я – на гусеничном ходу, люки задраены, и очень хочется кофе.
Вокруг меня расстилается беспредельным своим беспределом вид Старого моего города. На сердце тревога: я в отчизне, анахну, наконец, – кан! Добегался то есть. В Старом городе я, вот где!
...И конечно – я так и знал! На меня вымаршировала колонна экскурсантов из Мариуполя по булгаковским местам Эль-Кудса. «О, как все узнаваемо!» – восклицает училка словесности, глядя на очередного Га-Ноцри из Дании, волокущего свой крест по Виа Долороза. Какое тонкое лицо, как был прозорлив Михаил Афанасьевич, как он все провидел – Га-Ноцри как живой! Датчанин пер крест с белобрысым достоинством белорыбицы, вокруг гикали дежурные арапчата, проходили, бряцая шпорами, «легионеры» в голубых касках, пробежал тишком да бочком Каифа из коварного синедриона... Ох, Михал Афанасьевич! Как вы могли все так точно предусмотреть? Из вашего далекого далека путеводителя по Иерусалиму? А? Чтоб – как живой. Но немножко картонный...
...Но очень хочется кофе.
И! – тогда я увидел!.. Заранее скажу, это (То, Что я Увидел) оптом окупило все мои мелкие расходы: струны пережженных нервов, разыгравшуюся мою мизантропию, не говоря о лит-токсикозе по булгаковским местам нашего Самаркандика.
Я увидел птицу. Механическую. Похожую на русский гос. герб, если у него оторвать приставную лишнюю голову. Птица вообще-то изображала собой попугая, но от неблагоприятных погодных условий эксплуатации вылиняла до орла. Фокус заключался в том, что если птице на ухо произнести нечто, она, волшебным образом технической – гонконгской, видимо – революции, повторяла мерзким голосом, но дословно.
Это – чтоб было смешно или, как теперь говорят, – аттрактивно.
Сувенир такой.
Птицей заведовал грязноватый псих в куфие на голое тело. Он демонстрировал птичьи попугайские возможности и сам (судя по задрипанному состоянию птички) уже года три хихикал на ее повторы. За небольшие мелкие центы.
– Леди энд джентльмен! – веселился птицевладелец, как ему казалось, очень тонно.
– Ladies and gentelmen! – поправляла его магическая птичка.
– Бонджорно! – почему-то кричал безумец.
– Buongiorno! – ответствовал магнито-попка.
– Дур-рак!!! – выговорил, выйдя у меня из-за спины, интурист из Самары и раскланялся.
«Мудак!!!» – подумал я. И, словно читая мои мысли, «Ррусски!!!» – завопил антрепренер попугая!
– Р-русски... – неуверенно повторил птичий механизм. – ...ак!
Строй марширующей по булгаковским местам оравы смешался, сломался, экскурсанты обступили попугаеносца плотным потным кольцом. Меня оттеснили, кофе мне сразу расхотелось. (Или расхотелся? Ведь кофе – это он!)
– Я помню чудное мгновенье! – чтобы что-то сказать – что-то патриотическое, – гаркнула на ухо попугаю училка из Мариуполя.
– Ja pomnu chudnoj mgnovenie! – отозвался гнусный, славистической интонации голос.
– Передо мной... – подсказали из группы (кто-то сановитый, видимо поэтому руководитель группы и, по-видимому поэтому, – самый эрудированный).
– Папа со мной, – сказал по-детски попугай.
– ...явилась ты! – сказала хором экскурсия.
– Как умру, похороните на Украйне милой... – вдруг ляпнул кто-то из толпы.
Попугай молчал, этого его хрупкий механизм выговорить не мог.
– Не все сразу, товарищи, – вмешался путеводитель, т.е. руководитель.
– Товаритщи! – обрадовался хозяин аттракции. – Товаритщи! Коротшо!
Попугай молчал.
– Ко-рот-шо! – начала скандировать экскурсия.
Попугай молчал.
«То-то же», – подумал я.
Владетель попугая забеспокоился. Он лишался добровольных пожертвований. Жил он, по всей видимости, с гонконгских талантов автоптички. Поломка удручала.
– Хоротшо... – проговорил он неуверенно.
Попугай молчал. Хозяин потряс попугаем над куфией.
– Тшо, – агонически прохрипела птица. И вдруг выдала: – «Как умру, похороните... На Украйне милой», – с запинкой, раздумчиво. И – тишина.
Экскурсанты, хорошие в сущности и, видимо, небогатые люди, сунули, стесняясь, попугаеносцу какую-то мелочь и, понимая горе, – отошли, разошлись, истаяли. Самарец щедро кинул 10-тысячную купюру рублей. «Знай наших», – ухарски подмигнул он мне. Я подмигнул в ответ (у меня тик). Самарец ушел приобретать свежие антикварные гвозди для конечностей.
Я остался с поломанным попугаем и поломанной человеческой судьбой его хозяина.
«А кофе-то я не купил, – кстати вспомнилось мне. – Одна нога здесь...»
И тут имело место знаменье, нередкое, впрочем, в наших краях святой земли. Имело место знаменье, или; если хотите, – чудо. Нес, грубо говоря.
С минарета мечети Омара запел нечеловеческим голосом репродуктор муэдзина! Все задрали головы, а я посмотрел на попугая. Он – нет?
Мне не почудилось – он шевельнул крыльями, которые должны были, по замыслу хитроумных гонконгцев, сопутствовать его речи, но бездействовали, ибо батарейка села еще при Бегине и механика запылилась. Он! Он шевельнул крыльями!!! Он шевельнул крыльями! И повторил призыв правоверным: «Стройсь на молитву!» В полногласье. Попадая в терцию!!!
У меня появилось отчетливое желание перекреститься. Я сплюнул «тьфу-тьфу-тьфу» через левое плечо.
– Тьфу-тьфу-тьфу! – сказал попугай в паузе меж двумя завывами.
На сумасшедшенького владельца попугая было приятно, но несколько неделикатно смотреть, на глазах его были слезы, он целовал механизм в шейку, крыло, зоб и гузку, он экстазировал! Я отвернулся от этого такого человеческого чуда, такого яркого доказательства присутствия в нашем мире Высших Сил Высшего существа. Безусловно, здесь имел место промысел. Господень? Аллахов? Великого Бога Заводных Попугаев? Мне не дано было постичь этого, простому материалисту-надомнику.
Я поплелся домой. Обул гусеницы, опустил бронещитки, оправил полы клепаной жилетки... Я был подавлен вмешательством Высших Сил. Я, Бич Б-жий, поплелся домой, забыв купить контрабандного кофию для себя и своей Аглаи. Думал я, седлая ослятю, о чудесненьком.
Ведь как было бы чудесненько, думал я, если бы магнитофоны израильских средств массовой информации хотя бы неселективно повторяли весь этот вздор и откровения, который несли ему мы, русские алии, – например, в недавней передаче «Мабат шени» на 1 канале нашего госTV. Неселективно. О Большой когда-то алие. И ее абсорбции. Ладно: пусть не хлопают крыльями. Но пусть – неселективно. Я понимаю, что легче молитву муэдзина... Но все-таки? А, Великий бог Механических Попугаев?!
Ясно, что маленький электроннный мозжечок ведущих и режиссеров не может отличить осмысленный текст от безумной реплики, но тогда хоть воспроизведут пусть в диапазоне от «Как умру, похороните» до «Русский хор-роший!». Не хлопая, повторяю, – крыльями... И кофе – ладно, тогда кофе не надо. Мы с Аглаей обойдемся!
...Все-таки чудесен наш край. Достаточно выйти в поисках субботней добычи в Старый наш Город, и... чудо, чудо налицо. Как, впрочем, и все остальное: потому что наш город Святой. Хотя и – старый.
А еще знаете, почему я не люблю аристократическую компанию наших ровесников-старперов? За лень. Потому что они, в отличие от предприимчивого психа в куфие на голое тело, даже попугая завести себе не потрудились. Недорогого. Волшебного. На батарейках и от сети. И – свой Старый город.
ИЛИ КТО
– Ты тут сидишь, а Тегеран расширяет донельзя атомные проекты...
– Ага. Надо же.
– Надо же что-то делать!
– Ага. Надо. Же.
– Сделай же что-нибудь, ведь жить стало невозможно!
– Радиоактивная пыль на мирпесете? Не обращай внимания.
– Слушай, ты журналист или кто? Напиши. Памфлет!..
– Злобный. Чтоб аятоллам мало не показалось.
– Не ерничай!
– Не буду.
– Писать не будешь?!
– Ерничать не буду. И, по-моему, ежу ясно: эту тему лучше подать в жанре бурлеска. Пора отдать мне дань бурлеску. Чтоб цвели все цветы моего остроумья... Бессмертники.
– Ну как знаешь, как знаешь. Друг называется.
– Генделев?
– Ага. Генделев.
– Будем отдавать Хермон или будем глазки строить? Я так ставлю вопрос!
– А вы кто будете, милостивый государь? Извините.
– Я читатель. На заслуженном отдыхе. Юрист в отставке, ветеран и орденоносец. И вот я тебя спрашиваю: как с Хермоном?
– Я, адон орденоносец, вообще-то больше по кулинарии...
– Не отсиживайся за нашими спинами, захребетник. Вопрос стоит ребром: или мы, или...
– Они. Мицтаэр. Титкашер, б'вакаша, ба шавуа аба...
– Сволочь троцкистская. Жаль, вас тогда, в 37-м... Жаль. Ты б у меня по-другому заговорил. Жаль.
– Мне тоже.
– Господин Генделев, я по проблеме аборта...
– Подождите у телефона... (Аглая, немедленно воды...) Да, я слушаю. Это Зина? Зинка, ты?!
– Нет, это Света. То есть Маргалит из женского движения «Дети мира, на минуту встаньте»!!! Знаете?
– Извините, Светочка... Слиха, Маргалиточка. Вы не могли бы напомнить, как вы, собственно... Какой срок? И я, по-моему, был в Москве. Вы уверены, что это – м-м-м... Что это я?
– Вы – Генделев?
– В общем-то да.
– Значит, это вы!
– Я?!!
– Мне порекомендовали вас, вы автор...

– ...?...?!...!!!
– Говорите громче, я вас не слышу.
– Подождите, Зин..., тьфу, Маргалит, но я был в Москве? Вы уверены, что это – я?
– Вы, только вы! Тут наши девочки говорили, что только вы...
– Что, был сильно выпимши?
– Кто? Вы – Генделев, писатель?
– Ну я. Вы бы намекнули, как, где, когда! Вы брюнетка?
– Я брею голову. Мы решили, что только вы смогли бы поднять проблему. Наши девочки, наши женщины алии-90 беременеют...
– Сколько вас там?
– 124. Но это ядро. Активистки.
– И все от... меня?.. Все?!
– И все от вас ждут проблемной статьи.
– Уф. Но я, простите, не гинеколог. Я ж военврач. В отставке. Это не мой... профиль.
– Профиль у вас всех – одинаковый. Только об одном и думаете. А у нас тут девочки, наши женщины алии-90, беременеют вне брака от кого ни попадя...
– Я, знаете ли, не кто попадя.
– Вы журналист или...
– Нет. Или – нет.
– Вы Генделев?
– И – Генделев... Генделев и Генделев.
– Значит, в кнессет идем?
– Значит, идем. С кем имею честь? Идти в кнессет?
– Не морочь мне голову. Я тут списочек сбацал. Номер первый, понятное дело, – Толик. Номер второй – я. Номер третий – Жорик, я его еще по «Крестам» знаю. Запасной – ты. Берешь на себя финансирование. Приходи со своим электоратом. В пятницу. К «Машбиру». В 2.47, мне еще закупиться перед шабатом надо. Узнаешь меня по авоське. Понял?
– Понял. Во-первых, я расстался с электоратом. А можно я не пойду к «Машбиру»? В кнессет – тоже? Я занят, я...
– Нельзя. Ты журналист или?..
– Надо наддать в борьбе с девятым валом антисемитизма в России, и особенно в нашем Краснопресненском районе Углича. Вы должны поднять папу Иоанна, мать Терезу и семью братских народов.
– Дочь Монтесумы брать с собой будем? И сына Полка? На предмет противостояния валу?!
– Вы должны со всей ответственностью представлять себе опасность поднявшего голову звериного оскала...
– Ты можешь наконец решить – бомбить Грозный или ограничиться полумерами?.. А, Мишка?..
***
– Ты прохлаждаешься, а озоновая дыра расползается, расползается, расползается...
!!!
Это – по телефону.
А ведь есть еще почта. Еженедельная, ежедневная, с нарочным. Голубиная.
Есть – хорошо подготовленные неожиданные встречи – на углу Бен-Йегуды и Тверского бульвара, в синагоге, в мужской комнате.
Есть воззвания, открытые письма, обращения через посредников и прочих родственников обслуживающего персонала моей мансарды. С припевом: «Ты писатель (журналист, публицист, ум, честь и совесть, глас народа, соловьиное горло алии-90, зеркало Русской Революции, пресса – могучая сила, Не-Могу-Молчать, Представитель, Носитель, Держатель, Бичеватель, Врачеватель соц. язв) или кто?»
Ну уж я-то знаю, что я – «или кто». Кому, как не мне, этого не знать. Журналист я, сатирик и бичеватель игрой прихотливого случая – а большинство дней своей скоротечной 45-летней жизни я скоротал, будучи «или кто». Это когда еще жисть моя была райская, не сопровождалась биография обременяющими излишествами: бременем – неумолкающим телефоном, бременем – славой с параллельным узнаванием ответственности за землетрясения и корзину абсорбции. Писал я себе стихи, узнавали меня на улице только кредиторки, разводился я только со своими женами. Разводя руками, а не мосты и враждующие группировки в Чечне. Баснословные патриархальные времена! Сопровождающиеся идентичными нравами.
Ну спрашивается, почему я, начинающий плешиветь и скособочиваться немолодой еврей гуманитарных склонностей и до патологии гетеросексуальной направленности нечестивых пристрастий, – почему я, автор вполне герметических книг, ответствен за все эти тектонические процессы мира и войны? В диапазоне от прав человека на аборт до права озона на дыру? Все сам да сам. Как я стал общественным животным для битья с голосом толп? Разве мама хотела такого?
Отвечаю развернутым ответом: а так.
Дело в том, что у меня определенно появилось человечество, нуждающееся в сиюминутной опеке и, по скудости средств, видимо, – моей персональной опеке. Ну действительно, как мы, в данном случае мы – израильтяне, не можем допустить нарастания вала роста увеличения антисемитских настроений отдельных лиц и толп в Угличе? Мы вполне можем допустить, внечувственно не обратив внимания на факт ближайшей отдачи куска нашей столицы нашим товарищам из ФАТХа, чтоб этот кусок нашей столицы не достался их товарищам из ХАМАСа, но наша глобальная цель – не допустить роста вала в Угличе. И за Углич отвечаем мы, а за ФАТХ – я.
Потому что мы – в данном и во всех данных случаях израильтяне – в первую, конечно, голову должны помочь делу торжества демократии и свободы личности боснийских мусульман на Балканах, чечен в Грозном и палестинского народа, а не делу (вполне, понятно, пустяковому) поддержания принципов нашего национального существования у себя на мирпесете. И за мусульман Боснии ответственны мы, а за крах сионизма – Генделев.
Потому что проблема российско-израильских и израиле-российских взаимоотношений и весь веер перспектив этих взаимоотношений – от геополитического союзничества до конфронтации – нас (израильтян) волнует несказанно меньше, чем процесс над рэкетирами в Замоскворечье, не говоря об расцвете камерунско-израильского сотрудничества в области икебаны. За Камерун – ответственны мы. За геополитику – я.
Потому что характер намечающегося монтажа «русской партии», конечно, дает основание для беспокойства по поводу источников ее финансирования, но нас, израильтян, гораздо более интересует вопрос о трудоустройстве безработных лаптеплетильщиц и интеграции их в систему ВИЦО, нежели вопрос о том, что финансирование (например, из Москвы) может привести к «оплате» долговых обязательств (например, перед «Москвой»), что скажется на легкой такой, ненавязчивой такой ангажированности наших аполитичных «русскоязычных депутатов». За трудоустройство умелиц ответственны мы. За остальное – я.
Потому что наличие в нашей стране генерализирующейся «русской» общины не означает (как думается израильтянам) образования некоторого – забытого Богом и активистами-культуртрегерами народных израильских танцев – гетто, а означает активное, экспансивное вторжение группы мощнейшей культуры (с сопутствующими этой культуре цивилизационными установками и модусами социального поведения во всем объеме и по полной программе) в культуру слабую и неустойчивую. Ответственны за кружки рикудей ам – мы. За остальное – я, Мишенька.
Ну и т.д. К сожалению. Ладно. Тогда и будем вести себя подобающе: о, мой Народ! О, мой народец – русскоязычные мои читатели. Мы тут с Аглаей посовещались и пришли к такому вот историческому решению. Поскольку от перемены мест слагаемых сумма моих гонораров не изменяется, поскольку с озоновой дырой надо действительно что-то делать, а положение в Угличе с евреями похуже губернаторского – вы берете ответственность на себя: за этот наш мир, за эту нашу израильскую вселенную. Это я говорю вам, русскоговорящий израильтянин, с последней простотой. Давайте-ка, о мой народ, выйдем из детской и гостиной хотя бы в людскую. Хватит, пожили со всем возможным инфантилизмом. Я уже лично знаю несколько человек, которые не только пожили в Израиле пару-другую лет, но даже обзавелись сединой на висках. Детьми обзавелись, «даятсу» обзавелись, счетами в банке обзавелись. А некоторые – даже уже и померли. Здесь, на земле, мною вам совершенно не обетованной. Так и померли, пребывая в идеальной инфантильной эйфорийке; под руководством неких «старших товарищей», которые «знают», которые политики, политические лидеры, кадры, номенклатура и вообще – взрослые. И – местные. В этой стране взрослых – нет. А вы – местные. По крайней мере по месту вашего наиболее вероятного захоронения. Так что к вам, мои русскоязычные, у меня убедительная просьба. Давайте сами взгромоздим на себя наши собственные (последнее – подчеркнуть) проблемы нашей собственной (последнее подчеркнуть дважды) страны. Ответственные – вы. А я спокойно займусь «Обществом чистых тарелок». В конце концов, я писатель или кто? И тогда я уже сам сниму телефонную трубку и по-русски побеспокою Господа Бога нашего, моего старого читателя.
– Ты тут сидишь, а Тегеран расширяет донельзя атомные проекты.
– Ага. Надо же.
– Надо же что-то делать!
– Ага. Надо. Же.
– Так и сделай же что-нибудь, ведь жить стало невозможно!..
– Это кто говорит? – спросит Господь Бог. – Это кто говорит? Генделев или кто?
– Это говорит Генделев. Или кто.
КАРНАВАЛ
Теперь-то уже, по прошествии стольких лет и генеральных последних корректур, трудно отделить вымысел от изощренной фальсификации подлинной истории нашей. В Хронике Страстей начала последнего десятилетия века и заодно, кто ж мелочиться-то будет, – «Русских Девяностых» – пемзой ли да мелом, за ради нового полисемита али просто стерев файл и забыв имя его в «Памяти», – в хрониках Наших Страстей не отмечена дата поворота на ножку моей персональной судьбы – когда (и кто они – поименно?) мойры распорядились, чтоб явочным порядком я, некогда сочинитель стихов и поэт, отныне и присно писал смешно, только смешно и ничего, кроме смешно!
Сейчас, невнимательно пробегая изредка мне попадающиеся вырезки своих первых статеек (я перенес – с начала своей газетной карьеры – две описи имущества, три ремонта, из которых два капитальных, ссылку, два развода, из которых один капитальный, групповой и персональный переход из одной «команды» в другую, смену клича, дизайна, хоругви и беспартийной принадлежности, так что не только подшивки сочинений – завещания в архиве своем отыскать не могу!), сейчас, меланхолически в пальцах кроша уже ломкие, с опавшей пудрой, крылышки моих тогдашних однодневок, я умиляюсь собственной робости, застенчивости своей тогдашней, страха утерять за ради красного словца доставшиеся от прежних, литературных еще штудий навыки художественного письма – открытого писательского письма к интеллигентному читателю.
Ах, эти ювенильные приемы: многоточия, контаминации цитат, пикнические фигурки умолчаний, тонкая ирония, сарказм невысокого градуса каления, библиотечный юмор.

Теперь я пишу смешно. О чем бы ни писал. Более того! Даже ежели, вопреки собственной, или «редакторской», или эмоциональной, например, установке, я пытаюсь сочинить что-либо патетическое, упругий поводок уже и не жанра, но роли воздергивает, возвращает меня назад.
Мне так, по окончании антраша и реприз, – лень было снимать парик, отстегивать нос и смывать грим на ночь, что маска приросла... Но не все так примитивно. Я не скучаю по тем временам, когда я еще размывался на ночь: я их забыл. Скорее, и скорее всего, я разучился писать не смешно, утратил навыки несмешной авторской речи: ура.
Решительная, дамская по авторству и сучья по безжалостной сути, металлическая формула закона: «Человечек – это стилек» – в моем случае и обратную силу имеет: стиль мышления это способ существования человека. Я действительно обнаружил (со временем), что не способен серьезно существовать в несмешном мире. Если уж отчетливо жить в том реальном универсуме и если уж писать, описывать его – то следует, а пожалуй, и единственно возможно – писать смешно, только смешно и ничего, кроме как – смешно!
«Смешно» – как экзистенция, репродуцируемая литературой и репрезентируемая литератором, – не имеет никакого отношения к чувству юмора, как его понимает обыватель. Это скорее попытка согласиться с чувством юмора Господа Бога. Или – дело вкуса – Божка или музы Истории. «Смешно» – это качество, присущее миру, в котором и у которого обязательно есть автор. В этом смысле: и Толстой, и Моцарт, и я всегда писали «смешно». Потому что жили смешно и жизнь их была «в смешном». И если раньше, несколько в щегольской манере самоиронии, я только что не позволял себе вслух расхохотаться на предложение (впрочем, добродушное и невинное) извне: «Мишка, напиши о Чечне что-нибудь с юморком...» или: «Генделев, тут у нас темка подходящая для тебя – палестинско-египетские переговоры зашли в тупик...», – то теперь сохранение серьезной мины дается мне с легкостью столь необычайной, что я начинаю подозревать, что и повода для (авто)иронии мне не подали.
Сама природа моего смешного такова, что внутри стихии моего смешного ничего смешного нет, как в смерче – ветра, а в бессмертии – смерти. В чужом смешном – тоже.
Я ни в коем случае не собираюсь посвятить это сочинение исследованию «смехового элемента» и апологии или, не дай Бог, полемике с Бахтиным и присными. Предметом моих исследований всегда являюсь я сам, а жертвой – случайный читатель, так что тут не до умствований, а до персональной философии. Другими словами, я не объясняю мир, не наблюдаю его, но – свидетельствую.
Стараниями моих работодателей, потребителей, заказчиков и воспитателей я сегодня действительно не вижу во Вселенском Порядке ничего смешного. Подчеркиваю: не того, что не может быть подвергнуто осмеянию, а того, что противоречит представлению моему (и Господа Бога) – о смешном. А само по себе смешное – в осмеянии не нуждается.
В осмеянии – при всей смехотворности – не нуждаются: переговоры об автономии; требования Египта присоединиться нам, Израилю, к Договору о нераспространении ядерного оружия; требования секретариата ООП о провозглашении палестинского государства – в полном объеме государственности и со столицей в Иерусалиме; требования Сирии об уходе с Голан; давление левых министров в плане свертывания программы строительства Большого Иерусалима и т.д., и т.п.
Более того, отнюдь не нуждаются в сатирической оснастке извне дебаты об изменении положения о возвращении и поправки к закону о еврействе, – можно только закавычить некоторые реплики диспутантов. Ничто смешное, кроме содержания и формы, нельзя прозреть и вывести на арену за ухо на солнышко из внешнеполитических программ и деклараций нашего государства: все в тексте и контексте! К чему сарказм! И подковырки!
При всей невинности и непомутненности моих коллег по пахоте газетной – слава их, сатириков и насмешников, иронистов и фельетонистов – заслуженна, особенно у верстающих сводки новостей. И хоть им легко достается эта слава, и они, по скромности отмахиваются от нее – она заслуженна выслугой лет в этой стране и честностью работы с материалом. Я утверждаю, что не только «Вести» – сатирическое приложение нашей общины, но и община – сатирическое приложение к Израилю, который, в свою очередь – обхохочешься! – юмористическое приложение к нееврейскому миру. И – судя по всему – почти бесплатное. Вкладыш. Самоокупаемое за счет рекламных объявлений (см. «Материалы Базельского конгресса», Декларацию Бальфура и мирные договоры с Египтом (Мицраим), Иорданией (Эдом), амалекитянами). А чтобы не предавать какое-то искусственно раздутое, исторически неоправданное положение судьбе периферического, немногочисленного народца (китайцев, например, уже миллиард двести миллионов), следует воспринять и мир наш израильский, и страну непрочную нашу как шутку, как насмешливый комментарий к заявлению: «и после этого отпустит Он вас отсюда, когда Он отпустит, окончательно выгонит вас отсюда. Скажи народу: пусть возьмет в долг каждый у знакомого (египтянина) и каждая (женщина) у подруги (египтянки) серебряных вещей и вещей золотых» («Шмот» 11,50). И в иронии – почувствуй себя равным Творцу!
Единственное, что мешает мне полностью отдаться моему Призванию – сатирика, комика, юмориста, – это быт. С его повышенным накалом серьеза. Мой персональный быт отвлекает от Творчества, ставит палки в колеса, не дает расхохотаться, ткнуть в пароксизме ржания под дых локотком соседа по смеховой акции; утереть слезы и то некогда, руки не доходят.
Дело все в том, что, по геометрии Бахтина, я живу, хотя и с видом на небо, но в нижнем мире.
Мой мир ниже, как бы это поизящнее сказать, – ниже пояса. Он безусловно рукотворен, многие постарались от души – карнавализирован. Но как-то спустя рукава. Я пытаюсь исправить положение, до боли, до ломоты в загривке (отложение соли земли русской) пытаюсь прозреть горние выси горнего своего Иерусалима, но грехи не пускают. Многочисленные мистерии, невольным участником которых меня делают обстоятельства, ничего общего не имеют со служением Высшему Началу. Приходится служить за небольшое вознаграждение Низменному Началу, т.е. – Концу. Причем никак не выйти на пенсию, скопить на старость дивиденды комикования своего.
Мне тут намедни пришлось принять участие в одной мистерии. Попросить у Еврейского государства, верней у аппарата насилия Еврейского нашего государства, а еще верней – у Полиции нашего Еврейского государства – защиты от некоего абсолютно подлого и, само собой, незаконного произвола некоторых частных лиц, почему-то начавших манипулировать моей небольшой собственностью. И получил я устный ответ полицейского офицера, что он (и вверенные ему силы аппарата насилия нашего еврейского государства) пальцем не пошевелят в мою защиту, ибо заняты проблемами на территориях по нашей – он имел в виду мой русский («правый, надо понимать) акцент – вине, и у него, по нашей, «правой», надо понимать, вине забот полон рот. И вот если бы мы – «правые» – не заставляли его заниматься «арабскими» делами, упорно не желая отдать территории, он бы мог посвятить всего себя своим, как он выразился, – прямым обязанностям – не надсмотрщика над арабами, а надсмотрщика над жуликами-евреями. А поскольку ему такие, как я (с «правым» акцентом), маньяки не дают отдать территории, то и времени на нас у него не найдется… И просит его понять как интеллектуал интеллектуала.
Я, знаете, от его логики – обалдел. Но потом вспомнил, что я сатирик. И все пошло, как по маслу. Мистерия удалась на славу, кроме того, что меня чуть не привлекли к суду за оскорбление действием этой сволочи при исполнении служебных обязанностей. Я вдруг, как озарение, ощутил, что это – смешно. И как дитя, чуть не попавшее под грузовик, – от испуга начал громко смеяться: это же карнавал, сакральное действо! Он – интеллигентный сабра, судя по произношению, он – ряженый. В форму госаппарата насилия. А на самом деле, в обыденной жизни – он милый, гуманный, с идеалами и представлениями о справедливости дегенерат. Это мы так договорились, чтоб было смешно, что он – полицейский, а я, соответственно, – сатирик. Ха-ха. А по окончании карнавала мы переоденемся в партикулярное серой краски будня – он в цивильное: шортики на помочах и пионерский (пардон, скаутский) галстучек социалистической расцветки, а я в привычное: полосатый бушлат, бахилы на босу ногу.
Или другое, менее завлекательное, но ритуальное действо, в котором мне довелось принять участие: наложение брачных уз уругвайским браком. Мальчик лет эдак сорока был изумительно кошерен. Девчонку того же возраста звали, по-киевски говоря, – Берта, отчество было у нее смешное – Ароновна. Но у нас ведь все по матушке. А, ирония судьбы! Матушка ее матушки была Брониславой, что по первой части – «Броня», безусловно устраивало раввинский суд, а вот «слава» на кончике хиляло... И перед счастливыми молодоженами открылась ослепительная перспектива: или на Кипр, или на родимую Кыевщину, или уругвайским браком венчаться. Я хохотал как бешеный, когда потенциальные молодожены чуть не всерьез обсуждали вопрос, а не перейти ли им в ислам? – ведь тогда все можно было 6 провернуть по месту жительства!
На исторической родине любого араба и арабки (а не, как выяснилось, – любого еврея и еврейки), в смысле права законно улечься в супружескую постельку. Но что очаровательнее всего, что у их вероятного потомства в перспективе тоже смеховая перспектива...
Сатирик я, как теперь выражаются, – «по жизни». И творчеству. И никаких шансов избегнуть. Карма. Судьба. Доля. Тафкид. Только сердчишко в последнее время пошаливает, да цифири давления похожи на рейтинг Каспарова. Но в целом – сатирик. Сатирик, комик – это не тот, кому смешно, это тот, кто сидит по горло в том, что смешно. И оттуда чирикает. Если ж вы чирикаете не «оттуда», то это уже или Гавайи или Горний Иерусалим, второе облако, эманировать два раза, евреев просят не беспокоиться.
Хуже всего, когда сатирику самому смешно. Это выпадение из такой стройной системы мироздания, выпадение из слухового окна с риском сломать шею. Сатирик со сломанной шеей – это непрофессионально. Да и выя у меня жестковата. Особенно с годами: головогрудь, а не шейка.
И еще несколько слов о себе. Как вы уже догадались. Смеюсь я редко, как правило, от страха. И даже всегда – от страха. Если первая природа – мир Божий, вторая – мир человеческий, третьей природе не бывать. Потому что если в первых двух есть место для смеха (вернее, иногда, на периферии, остается с краюшку место и для несмешного, точнее для не очень смешного), то в третьей природе (без Бога и человека-еврея) жить не хот-ца! Не смешно-с! Мне ни за что не смешон мир, в котором меня нет. И пугает меня так, что я весь смеюсь, – вид на тот мир, в котором меня нет.
И тогда я сажусь за стол и сочиняю смешное. Например, войну в Чечне. Или режим поэтапного ухода с Голанских высот. Или какие другие новости и последние известия. Теперь уже, по прошествии стольких лет и генеральных корректур, трудно определить, когда я, некогда трагический поэт, начал писать смешно, только смешно и ничего, кроме смешно.
Да и не к чему! Как у коллеги Мидаса все из рук падало уже золотым, так у меня, к чему не прикоснись… Скушно кончать столь незатейливую фразу. Но придется. Как это там у меня? – «Стиль мышления это все еще способ существования человека»?..
Омывалам в Хевра Кадиша, прежде чем предать меня моим плакальщицам, придется, вероятно, изрядно попотеть, отламывая нос, выдирая с корнем парик и сшивая на всякий случай мои губы. А на груди я хочу, чтоб гигантский бантик – я так люблю! – и на заднице – чтоб летучая мышь, самочка. «Элохим натан, элохим лаках», но может, «что и остается чрез звуки лиры и трубы»?
В ЭНДШПИЛЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Я люблю смотреть на молодежь. Она у нас замечательная, как на первый, так и на более пристальный, лорнирующий взгляд. Но люблю и посмотреть на молодежь не снисходительным взглядом, но с грустинкой, с суровинкой (такие взгляды характерны для бассетов, когда их уводят с прогулки) или – взглядом в упор, навскидку, взглядом хорошо, но разнообразно пожившего балбеса (которому не фиг делать – и он заинтересовался порослью).
Молодежь, в свою очередь, любит смотреть на меня. Молодежи интересно, ей не часто доводится видеть анкла Майкла буквально на расстоянии вытянутой мной руки. Некоторая часть молодежи знакома со мной визуально, кое-кто удостоился тактильных контактов. Многие сохранили памятные подарки, сувениры, письма, локоны. Многие не сохранили. Хотя я лично раздавал ладанки со своим изображением со мной на коленях, на груди. Раки распространял, киоты. Приятно, заходя в чью-нибудь горенку, увидеть на комодике складень с эпизодами из нашей жизни или просто – в спаленке – мой портретик из канонических. И пук бессмертников. Или веночек. У совсем девочек – лавровый, у тех, кто постарше, – флердоранж. Молодежь меня любит и коллекционирует. В этом ее приятное отличие от молодежи в мое время: мы щедро транжирили миги встречи со мной, не думая о будущем – мемуарах, архивах, гербариях. Что ж, времена меняются на времена, а кто-то выигрывает на разнице курсов.
Современная молодежь гораздо более любознательна: она интересуется, казалось бы, мелочами, казалось бы – второстепенными моими деталями: анатомией интересуется, патофизиологией. Психикой иногда интересуется. Приносят с собой инструментарий, берут пробы грунта. В азарте, бывало, доходило до смешного: предлагали расчлененку! Юные, бедовые головы. За вами будущее. Верней – перед вами.
И еще молодежь – в первую очередь наши мальчики и юноши – стараются брать с меня пример.
Я обычно не кочевряжусь, не корежусь, не ежусь, бесплатно иду навстречу, даю пример. Они иногда, обалдев, отходят, чувствуют потом себя, по их словам, – немного не в своей тарелке. Я их похлопываю, говорю «То-то же». Ободряю. Хотя я ворчун.
Я понимаю молодежь. Эту тягу к героике. Ведь надо ж с кого-то брать пример, кого-то принимать за образец, «делать с кого-то жизнь», как выразился один предтеча. Я хорошо понимаю молодежь где-то с часа дня и до утренней авроры. Потом – все, отстегиваю слуховой аппарат, вынимаю глаз, и – зубки на полку в аквариум – до меня не достучишься. Правда, некоторые фигурантки пытаются мне сниться, но если даже пробуждаюсь – то какой-то я вялый, неоживленный, зажгусь и… гасну.
Существует несколько предвзятых мнений, косных, рутинных представлений о нашей молодежи. Я хоу развенчать эти предрассудки, эти мифы. Развенчиваю!
Откуда, скажите на милость, взялось расхожее мнение, что то, что молодо-зелено, надо пороть, трепать за уши, кормить березовой (чушь какая!) кашей, драть и вообще – чтоб знала свое место? Это в корне неверно. Наказывать молодежь физически, конечно, надо, но тут, как говорится, «бей, да дело разумей»' (Песталоцци). Опять же, нет-нет да и встретится очень сильная молодежь, нередко вооруженная. Отсюда – ежу ясно, что следует, по возможности, отказываться от розги, шпицрутенов, бичевания, пинания в живот и прочих видов физического воздействия на ум в пользу более «гуманитарных» способов пресечения: принудработ по месту моего жительства, нарядов на кухню, возможной ссылки. Можно сократить рацион питания, изъять деликатесы, водку и крепкие напитки, сахарок, план. И только в исключительных случаях допустимо прибегнуть к экзекуции. Причем для подчеркивания педагогических аспектов, например порки, – следует предать этой акции назидательный, а значит, социально-общественно-значимый характер.
Сечь следует по филеям, под хорошую музыку Окуджавы или чевой-то собственноручно декламируя. Добиваясь тем самым у свидетелей карательной акции элемента духовного соучастия, я бы даже сказал – соборности. Скажем, ты – сечешь, хор товарок поет про синий троллейбус, а экзекутируемое лицо – насвистывает. Или – молодые люди разыгрывают живые картины, и гремит нечеловеческая по мощи музыка-гимн! И «преступная личность», просветленная страданием, поднимается со специальной поротельной скамеечки, застегивает джинсы, и на свежей ее мордашке слезы раскаяния и радости обретенного прощения. Так что самому плакать хочется, ибо умиленный. Тут же ей цветы, приглашение в недорогой ресторан, колготки там, какие не жалко. Можно потрепать по головенке.
Другая вредная привычка в работе с племенем младым – нравоучать, не имея к тому таланта. Сама по себе привычка нравоучать невредная, что – сообразит и ленивый разум – следует из самой этимологии – нравам-учать! «Учение, как говорится, – свет» (Сухомлинский). Но соображая, соображай – к чему ведешь, к каким идеалам! Взять, к примеру, мой нравственный грустный опыт совместной жизни с нашей страной. Могу ли я им поделиться? Нет, он мне самому нужен.
Отсюда следует, что с молодежью (ухо востро!) следует делиться старым, подержанным, но еще на ходу, конечно, – опытом жизни. Пусть они его подремонтируют, подлатают и носят на здоровье.
Бесценным в этом смысле является наш – старцев моего и (еще наземных) древних поколений – опыт ФЗУ, изготовления заточек, приводов в детприемник, пожирания лебеды в тяжелую годину, борьбы со стиляжничеством. Очень хорош – на предмет поделиться – опыт наших стройотрядов (задоринка, сам погибай, а товарища выручай), стройбата, контрацептивных мероприятий, разгрузки вагонов, костров с пением здравствуй милая картошка под 6аян худрука.
Знаю, знаю, что поделиться этим опытом с молодежью нелегко. Но надо – значит надо! Обычно ведь как бывает? Так бывает. Поймаешь молодежь. Пригвоздишь. И себе вволю – наделишься. Делишься, стоишь весь красный, разгорячишься, семь потов с тебя сойдет, фотографии с начесом демонстрируешь. заливисто хохочешь, время пролетает незаметно. А на нужды молодежи – пока ты делишься – ноль внимания! А ведь и молодежи, может, чего и нужно в этот момент. Может, ей побриться надобно, перекусить завтраком, обедом и ужином, а то и выйти надо – дело житейское.
Следует следить за объектом, фиксировать ее неугасающий интерес к вашим воспоминаниям, менять подкладные. Иногда отвязывать. Тогда и «нравоучения пойдут как по маслу» (Д. Бен-Гурион, «Аэропорт»), безболезненно. И молодежь выглядит веселее, мех не жухнет, мездра без прорех, исчезает опасность потертостей, пролежней.
Когда я последний раз, с присущим мне искрометным талантом к воспоминаниям, нравственно учал, я столкнулся – дважды – с трудностями языкового характера (пришлось сменять реципиентку) и один раз опростоволосился: забыл. Забыл, понимаете ли, чем хотел поделиться из практики грозовой молодости. Годы ведь берут свое, седина на висках. От инея. Забыл, как был в плену, как рубал басмачей, как сховала меня простая башкирская учительница музыки Пелагея Прохоровна, как бежал из Пелагеева плена, скитался а скитах, бродил вброд, мытарствовал сборщиком податей, землемерил, приобрел квалификацию револьверщика без промаха, за что получил прозвище Соколиный-в-Глаз. Забыл! Я все забыл!!!
Она, дуреха зареванная, лежит в постели. раскинулась, разметалась а я стою – собранный такой в кулак, голые нервы, стальная пружина, натянутая струна – а чего стою? что я имею в виду? – забыл. То ли очень ретроградная амнезия, то ли старческая деменция, то ли опять, опять застарелый альцмгеймер, то ли – забыл, как называется синдром, – одним словом, забыл. Чего, собственно, хотел. То ли от нее (молодежи), то ли с ней (с молодежью) поделиться?.. Что я имел в виду?
Она мне и говорит, эдак повелительно:
– Ну, мол, анкл Майкл! Ну!
– Сща, – говорю, – Аглаюшка, вспомню! Ты не помнишь, что я имел в виду прошлый раз?
– Ой, всякую всячину! – говорит она и хохочет заразительно, как колокольчик. – Вы, – говорит, – такой изобретательный. Затейник вы.
Тут меня и ооенило. Справа посильнее осенило (скоро пройдет, помогла акупунктура), слева – почти незаметно.
Все пролетело пред моим утренним взором, все я вспомнил: и басмачей-хамасовцев, и Пелагею (раматганку, с прошлогоднего Пурима уже), и что я – «Соколиный-в-Айн».
И нравоучения прошли как обычно – без потерь.
Другая нынче молодежь, не та. Но есть и у нее недостатки. К ее недостаткам относятся: внешний вид, отсутствие цели в жизни и пренебрежительное отношение к родителям и старшим по рангу.
Остановимся на первом недостатке внешнего вида и зададимся вопросом. Не наливаясь, не багровея, как обычно, а так спокойненько, без рук, без нервов: разве мы так выглядели? Я как вспоминаю, как мы выглядели в шестидесятых в своих битловках с хайрами, в шузне, или в семидесятых – на платформочках от грузовозов, так я вам скажу – этим соплякам еще так выглядеть и выглядеть! Не говоря о нравственности! Потому что мы выглядели не сравнить круче. Что же до идиотского выражения лица, на котором был написан балдежный нонконформизм, дык и общая физиономия общества была – на телеге не объедешь. Советского общества – если кто запамятовал. Так что наши детки ненаглядные похожи и на маму, и на папу, только посвежее; я, конечно не понимаю, как из таких паршивцев, как мы в молодости, получились такие замечательные, солидные, тонкие и толерантные гверотай ве работай (и получатся – это я вам обещаю! – изумительной сенильности пергюнты), но одно замечу: то, что дети будут лучше нас, – очевидно, за нами – Москва! Так что хвастаться нечем. Уж кто-кто, а мы-то знаем, кем хотели нас воспитать наши родители. И каких титанических усилий нам стоило, чтобы им это не удалось. Зато нам – это обязательно удастся, – правда, Аглая? Вот и Аглая не даст соврать.
Это к вопросу о внешнем виде, т.е. как мы выглядим. Например – слабоумными – на примере двух последних волн алии. Не сумевшими хоть как-то закрепиться во властных структурах этой нашей страны, где только ленивый имбецил, будучи «нац. меньшинством», не приходит к власти. Как мы выглядим в глазах молодежи? Хотим ли мы, чтобы молодежь походила на нас и в ней все было бы так же прекрасно, как в человеке, – и лицо, и одежда, и руки? И ноги. И голова, которая, как известно, растет из шеи. Это и определяет второй крупный недостаток нашей молодежи. Отсутствие в жизни цели походить на нас
– Ты хотела бы походить на меня, Аглая? Нет, анкл Майкл не стебаиутый, просто он так шутит. Нет, конечно, ты бы не хотела походить на этого, с позволения сказать, укорененного писателя, зарабатывающего на жизнь периодическими писаниями по расценкам в три, как минимум, раза ниже, чем у самого тупого коллеги-аборигена, при аналогичной выдаче на-гора тоннажа продукции, вне зависимости от качества. Причем если учесть, что у анкла Майкла репутация удачливого литератора, «зарабатывающего на жизнь своим пером».
Отсюда и третий крупный недостаток нашей с вами молодежи: «пренебрежительное отношение к старшим по рангу». – Аглая, встань и сделай мне что-нибудь, а то я запыхался.
Ко мне часто приходит молодежь. Погретъся у камелька, послушать легенды, выпить из источника мудрости. В моей мансарде часто звучит девичье хихиканье, басовитое ржанье мужающих юношей, не редкость переодевания, звон посуды, гитарный звон. Часто молодежь подходит приласкать, подоткнуть одеяло, поднести поильничек.
Хорошая у нас молодежь, глаз не отвести. Особенно – правый.
НА ДНЕ БЕЗ СТРОЧКИ
«Чем мучаться на суровой...»
П е с н я
Мне хорошо. Мне оч-чень хорошо! Мне отлично! В России вон – судя по газете – убивают журналистов, а я, судя по газете, жив! Некоторые проверяют, жив ли я, заходят в гости, тычут вилками, как в Камо, зеркальце к губам прикладывают – мы запотеваем: жив. Хорошо мне, отлично. Продолжаю читать газетку.
В США одна женщина с одним мужчиной родила трех сыновей. Сыновья удались – старшенький и середненький. И в неонаци на двор ушли поиграть, – дело такое, житейское. А папа с мамой наоборот – подались свидетелями по делу Иеговы! Так два старших братика этих старцев и младшенького за религиозные предрассудки, несовместимые с их братскими неонаци-убеждениями, и за ожидовение тотальное – чик! С особым цинизмом угрохали свидетелей Иеговы наследники и скрылись во Флориду.
А вот у меня, судя по газете, единственные духовные наследницы – приемные читательницы. Хоть плохонькое, а утешение на старость: и мне – хорошо.
Особенно мне хорошо, когда я вдруг осознаю, что я не свидетель Иеговы, – это успокаивает.
А вот тоже случай такой: «В интервью немецкому “Шпигелю” Перес дал понять в завуалированной форме (цитирую по газете), что он не верит Арафату: “Арафат должен доказать свою действительную приверженность мирному процессу!” – сказал (в завуалированной форме) Ш. Перес». А мне – хорошо. Я Арафату верю! Я ему верил, верю и – вы будете, хохотать – всегда буду верить. В завуалированной форме, естественно, цвета хаки. Когда и он, и я.
Потом, опять же – у меня жизнь не чета пересовской, нервной (судя по газете), переменчивой. Мне не надо в детском садике играть с этим злюкой в «веришь – не веришь». Он обижается, когда «не веришь», завесится, бывало, занавесочкой такой в клеточку и даже на призыв поиграть в «хазаким-мехаблим» отказывает. Что тогда остается? Сесть на лавочку, сорвать пролетающего голубя Мира и отрывать ему крылышки, гадая: «любит – не любит, клюнет, поцелует, к сердцу прижмет...» (А мне и мухи достаточно: обидеть. И все – обычно весьма – кончается на «не любит».) Мне – хорошо.
Вообще поводов для счастья у меня уйма, в Японии землетрясение, а у меня только парапет от балкона упал. Откололся от мансарды – и вниз! И хорошо, а особенно отлично, что меня в этот критический момент не было ни на, ни под. Я не сидел ни на, ни под парапетом, ибо я ходил деньги одалживать на ремонт вернее – на возведение – парапета! И хорошо, что денег не одолжили! Ведь, во-первых, меньше внукам процентов на долги наши тяжкие отдавать придется, во-вторых, ссуду пытались втюхать под залог остальной, еще не опавшей мансарды (что будет связывать мансарде руки и диктовать ей политику), а в-третьих – парапет все равно упал.
И тем упадением навел меня на богатую ассоциацию с попытками наших госинстанций одолжить денег на ремонт парапета... пардон! – 100 миллионов шекелей на, судя по газетам, возведение парапета, опять пардон! – на возведение электронного ограждения вокруг сектора Газы... Который парапет – упадет, зуб даю на отсечение. О чем я накатал статью? Об электронном парапете! Хорошо? Хорошо! А гонорар тоже скоро получу – ровно денег на бутылку, чтоб выпить и забыть об утрате ограждения. У меня (и у нас) ведь – как? Нет парапета – нет проблем, есть парапет – нет проблем, есть балкон – нет проблем, нет балкона – нет проблем, нет Голан – нет проблем. Мне (нам) хорошо.
И мне хорошо. Вон в Чечне война идет, Россия с мусульманским миром за независимость от его (мира) произвола и его (мира) представлений, как надо разговаривать с гяурами, – воюет, а у нас – почти нет. Почти нет никакой войны. Потому что этот замечательный (судя по газетам) мир у нас – нас уже победил, то есть проиграл цепь войн. (Иначе с чего бы мы приобретенные в войнах земли отдавали?) Земля кому принадлежит – естественно – про...вшим войну за эту землю. Поэтому, что логично, – Россия обязана будет отдать Чечню. Это логика такая! Логика по аналогии: мы ж отдали в свое время Синай? И все остальное, судя по газетам, тоже отдадим с вышеупоминаемым парапетом и без.
Я ведь как думаю: мы почему ушли в изгнание после разрушения Второго Храма? Чтобы – не побеждать Тита! Победи мы Тита, мировое общественное мнение оказало бы на наше тогдашнее правительство давление и пришлось (хорошенькая история) бы нам вместо роскошной жизни в Калифорнии прозябать в Петах-Тикве! Или – правильно – наоборот? Ведь наоборот – это как следует из Неправильной Истории! И хорошо, что мы не победили: у нас теперь, т.е. сегодня – правильная, новая, как галоши, история, прежней не чета, поэтому – мне хорошо. Мы сегодня (с нашим правительством) – победители, поэтому нас (их) еще, к сожалению, не судят.
А представляете, как плохо было бы, если б нас победил исламский мир? Всем было бы плохо, и США было бы плохо, и Люксембургу. На Бельгию и Тайвань было бы страшно смотреть! А арабские страны-то! Да они б слезами облились, сколько сразу гуманитарных на их чалмы проблем. Только у нас бы их не было, проблем.
Я вообще-то думаю, что мы б, конечно (мы такие непобедимые) победили в конце концов, но победили бы более почетной победой – моральной. Правда – немножечко посмертной. Но так (в нашем случае) – еще почетнее. Потому что с большим отрывом в моральном преимуществе. У нас уже был громадный моральный отрыв в преимуществе, в Треблинке был отрыв, в Дахау у выживших наблюдалось преимущество. Но это ведь в прежней, Неправильной Истории, теперь у нас, повторяю, новая, и нам хорошо. И будет хорошо. Отлично и по-новому. Мне, судя по газетам, хорошо. Я говорю и пишу в первую очередь на русском языке. Я везун, пиши и говори я на каком-либо ином языке страны исхода, например, английском, меня было бы уже недокричагься. Если кричать в Филадельфию. А так мне эксклюзивно и хорошо только дома, в Израиле. А пиши я, например, по-арабски (в Израиле граждан понимающих на этих – русском и арабском языках, но по отдельности – приблизительно одинаковое по отдельности количество), меня бы уже и в кнессете штук 30 сидело, представляете? Причем – с той и с другой стороны. И я не мог бы, по занятости действительными проблемами страны (развитию арабской или – ладно уж – арабоязычной культуры арабоязычных арабов) писать по-русски по расценкам палестинского батрака. Нас много таких счастливцев, потому что нас в этой стране (судя по газете, Израиль) – много!
Если бы пишущих, как я, но по-арабски, было тоже много, представляете, какую бы они создали мне конкуренцию по-русски?
Поэтому очень мудро, что наше правительство соблюдает пропорцию поощрения арабоязычной культуры арабов в Израиле и русскоязычных евреев в том же, как ни странно, Израиле. А именно: арабоязычная культура арабов – есть острая проблема Израиля (каждому израильтянину – по арабской культуре), а русскоязычная культура русскоязычных евреев Израиля – это проблема русскоязычных евреев Израиля (каждому русскому еврею – по русской культуре). А если вам это не нравится – убирайтесь в... ну, скажем, в... Россию. Вы здесь не по-арабски пишете, чтоб вас за это поощрять. Например, – возможностью писать книги не только по кулинарии. Поэтому меня не поощряют и мне не попустительствуют, мне и так хорошо, мне – отлично. Я могу писать по-русски, судя по газете, сколько мне в Израиле влезет. Абсолютно независимо ни от чего – от еды, например. Верней – зависимо ни от чего. (Я бы мог еще много всякого хорошего сказать и рассказать о программе возведения письменных и устных памятников культуры бывших арабоязычных евреев, но меня и так тошнит.)
Хорошо, конечно, но, строго говоря, всему хорошему – и это особенно хорошо – я обязан только самому себе! Я сам себе с легкостью обеспечил все необходимое для творческой своей работы над собой. Кто мне давал деньги на мои книги? Никто! Я сам себе давал. Кто мне давал деньги, чтоб я ел еду, когда (судя по газетам) я их (книги) писал? Никто – я их сам себе давал! Я их (деньги) брал из денег, на которые я себе давал денег из денег на издание книг и – бросал на еду. И – наоборот. И еще жирный кус перепадал издателям и домашним. Но так было раньше.
Теперь – все наоборот. Теперь все хорошо, и у каждого хорошего писателя есть, как минимум, две хорошие возможности. Первая хорошая возможность: бедному не писать хорошие книги без денег; потому что все, какие есть деньги, он будет тратить на еду, иначе, извините, сдохнет с голоду. Вторая возможность: богатому не писать хорошие книги за деньги. Потому что – вы уже догадались! – заработанные во все время неписания книг (то есть за все свое время) деньги бывший писатель тоже будет тратить на еду (или на что-нибудь другое: одежду, обувь), но времени писать книги у него не будет. Это как парапетик: нет денег – нет проблем (и книг), есть деньги – тоже нет проблем (и книг). Таким образом, можно не писать книг ни за деньги, ни без денег – я связно все объяснил? И – хорошо. Хорошо, что связно. Даже отлично. Потому что это мои личные (ну и еще сотни-другой профи, которые «по-русску» в разных жанрах) наблюдения над отсутствием проблемы «Как писать книги в Израиле?». А раз проблем нет – и хорошо.
Вообще все изменилось. Если раньше, когда меня спрашивали «как дела?», у меня было три способа ответа:
а) полный развернутый. С деталями. Часа на полтора. Я изводил этим способом особенно неприятных приятелей и многих извел. С корнем;
или –
б) «Отвратительно!» – говорил я отчетливо, и все улыбались моей оригинальной неординарной шутке незаурядной личности и, хохоча, удалились пересказывать;
и наконец,
в) я зверел;
то теперь я прямо смотрю интересующемуся в его бесстыжие глаза и твердо отвечаю: мне хорошо. Если ж он бестолков, или глухая тетеря он, или столбенеет от этого сообщения, я набираю в легкие немножко воздуха моей земли и вкрадчиво так начинаю: «Мне хорошо. Мне очень хорошо! В России вон – убивают журналистов, а я, судя по газете, жив...» И отлично помогает от ипохондрии и даже лучше, чем раньше. И особенно мне это удается хорошо, когда меня спрашивают о том, где ж это я достаю такие дефицитные темки для своих еженедельных пирамид и как я ж могу? Тогда я отвечаю: а видите ли, мне – хорошо. А что, говорю я громко, особенно коллегам, – у вас что, никогда не обваливался балкончик от парапетика?! Оч-ч-чень развивает творческие силы. Хор-ро-шо! Бодрит. Писательское воображение щекотит.
Выйдешь, бывает, наклонишься прямо из мансарды – над бездной, споешь себе что-нибудь из Окуджавы: «Лучше лежать на дне, бум-бум».
И задумаешься: «На дне. Без строчки».
РОДНАЯ РЕЧЬ
(Как читать и понимать мой текст)
Разбирая по поздним утрам почту, я, как правило, расстраиваюсь. Домашние, дежурящие у моего одра согласно расписанию, – видя мое перекошенное выражение лица, успокаивают, как могут. Успокаиваюсь я, как могу, надоевшей, но целящей дух максимой: порядочный писатель – не читатель, но порядочный читатель уж ни в коем случае не писатель! Я успокаиваюсь, как могу, что-нибудь пищу, как могу, а на следующее как могу позднее утро – опять расстраиваюсь.
Есть, судя по почте, четыре неправильных способа неправильно читать мои сочинения.
– Первый способ: внимательно прочитывать мой текст, ни фига в нем не понять и обижаться. Способ «по-собачьи» или «Гордый Варяг».
– Второй способ: невнимательно прочитывать мой текст, не понять и обижаться. Способ «дельфин на спине».
– Третий способ: внимательно прочитывать мой текст, понять и обижаться. Способ «утюг» (на груди).
– Четвертый способ: невнимательно, не понять, не обижаться, а наоборот, похвалить меня за то, что я не писал, и обозвать меня своим единомышленником; способ «саженки» или «Чапаев».
Я бы мог (наподобие публикации недавно мной избранных открытых писем читателей мне) проиллюстрировать ненаглядными примерами все четыре неправильных способа купаний в стихии моего слова.
Однако жаль читателей, Не тех, которые пишут, а тех, которые наоборот – читают; они же собирались читать писателя, а не читателя, не правда ли?!
Как читатели, они ведь и сами могут, по крайней мере если они относительно умны и способны преодолеть врожденное отвращение к писательскому труду, Но ведь – не хотят или не могут Что делает им честь, к слову сказать, независимо от мотивов.
Любой грамотный читатель может писать. По крайней мере как доказывает практика моих утр... А вот читать, как демонстрирует та же печальная практика (Аглая! Ты «сидела на полу»? Ты «груду писем разбирала»? Подмети за собой! А то ни за что больше не позволю – тебе – читать чужие письма читателей – наоборот – ко мне. И иди вымой руки!), умеет далеко не каждый читатель. (О писателях я не беспокоюсь, им это не надо. Судя по тому, что они катают, они и себя не читают.)
И поскольку мне жаль читателей, и поскольку я уже и так учу их готовить пищу, есть, вести себя в обществе себе подобных, и поскольку необходимость назрела (Аглая! Что ты ревешь, дурочка? Конечно, я не такой, как они пишут! Конечно. Ты-то меня лучше знаешь! Ты-то знаешь, что я не Чикатило! Ну какой же я Чикатило, вспомни прошлую ночь! Вспомнила?.. Ну хорошо, вспомни позапрошлую! И не смей верить непечатному, т.е. написанному от руки слову открытых писем Генделеву в редакцию! Иди умойся, глупышка!), ну вот видите, до чего деточку, не привитую от заразы, довели?
Поскольку необходимость вопиет, я составил пособие по чтению статей, колонок и меморандумов.
Любой читатель, освоивший примитивные навыки чтения меня, может легко прочитать меня до конца, понять, что я написал, и легко догадаться, что я еще понапишу всем на радость!
 «Подлежащее обозначает, о ком или о чем говорится в предложении».
«Подлежащее обозначает, о ком или о чем говорится в предложении».
Например, если в предложении правительству Израиля провести переговоры о статусе Иерусалима есть подлежащее, то мы – подлежащие нашему правительству – должны или подлежать и не чирикать, или отдавать себе отчет, что это обозначает и что переговоры ведутся не о ком или о чем, а о статусе! Несмотря на вполне, казалось бы, уже существующий статус Иерусалима, т.е. нашей столицы. Кроме того: «Подлежащее отвечает на вопрос кто? или что?» Подлежащее (т.е. – мы) отвечает на вопрос! Ясно? Оно (т.е. мы) обязательно отвечает, хотя бы себе, на вопрос, оно «кто?» или оно «что?». И если оно не отвечает на допрос «кто?», а отвечает на вопрос «оно что?», то так нам и надо и мы вполне достойны иметь то правительство, которое нас имеет.
Следуем дальше «Учебнику русского языка для 2-го класса» (М. П. Закожурникова, Ф. Д. Костенко, Н. О. Рождественский): «Сказуемое обозначает, что говорится о подлежащем» Хотя бы – сказуемое. Или голосуемое. Думаемое с фигою в кармане не считается сказуемым. Емомым! Понятно? Повторите пройденное.
«Сказуемое отвечает на вопрос: что делает?» Это самое главное правило! Потому что у нас сказуемое ни за что не отвечает. А чего отвечать-то, имея дело с таким подлежащим? Привожу пример для страдающих выпадениями из памяти.
Одним из основных выкинутых лозунгов правящей партии (выкинутых теперь за ненадобностью) был лозунг: «Миллион арабов нам не нужен, нам нужен миллион русских олим!» (или, другими словами, зачем нам абсорбировать миллион нелюбезных и мрачных палестинцев (с территориями), когда лучше ввезти, роскошно принять и немного поабсорбировать миллион любезных и веселых русских евреев? (Жаль, что без территорий.) Правда, я все изумительно хорошо все поведал из нашего недавнего прошлого?
Кто помнит этот транспарант? А ведь это было сказуемо и встретило, к сожалению, понимание наиболее доверчивой части нашего общества! Еще бы – простая, доходчивая реплика, вполне сионистская по духу и, исходя из декларированного характера нашей государственности, обозначающая: это, т.е. Израиль, – государство евреев! Уйдите, арабы, по причинам вашей политической демографии рождаемости, как из пулемета, и с заполитическими пулеметными претензиями! Зато – придите, миллион новых русских евреев, – омогучить нашу еврейскую страну! «Русские – сюда, арабы – туда». Изумительно простая схема. Что же мы, подлежащие, – имеем на сей день?
А на сей день, дорогие мои грамотники, мы имеем не только больше 500 тысяч не очень чтоб процветающих новых «русских», но еще и 800 тысяч собирающихся возвратиться («на законном основании») арабов, пардон – палестинских граждан Израиля... Они убежали, видите ли, из Еврейского государства (где им было плохо), изрядно умножились числом и айда – на родину, где им в этот раз будет хорошо – уж мы-то это хорошо обеспечим, по полной программе! Потому что здесь очень много мест (в том числе и – рабочих), где их ждут с хлебом-солью. Вместо олим.
Боже мой, сколько надо было потрудиться, чтоб провалить абсорбционную программу русских евреев! Сколько надо было всего хорошего сделать! Смогли же! А ведь это была такая программа абсорбции, что еще на детей наших внуков наших детей ее хватило б, особенно по части абсорбции духовной и культурной. Если ее напечатать и издать как сатирическое произведение за счет министерства абсорбции на все деньги, отпущенные на алию.
Сказуемое всегда отвечает на вопрос «что делать?». Но за результаты не отвечает.
Но я чувствую, что все это сложно, я чувствую, что материал дается с трудом. Есть правила попроще.
Слова, отвечающие на вопросы «что делает?», «что делал?», «что сделал?», обозначают действие. Значит, слова Йоси Бейлина о необходимости форсировать переговоры о передаче Голан – что делает? а?! – означают действие, которое мне, например, по-моему, представляется, например, – наказуемым, особенно если учесть, что в форме совершенного действия («что сделал?») будет оно необратимо! Даже если сменится правительство. («Окончанием называется изменяемая часть слова». Неизменяемая часть, таким образом, называется Международным договором и становится законом. А нарушение, даже вынужденное, международных договоров называется – «война».) Хотя в нашем случае окончание (переговоров) может оказаться и концом (света).
Меня часто упрекают в ячестве. Пишу, мол, о себе да о себе. Однако вглядитесь в название «Как читать и понимать мой текст»! Ну! Вы обратили внимание, что добрую половину именно этого текста я посвятил не навыкам понимания моего текста, а наоборот, иного текста –- текста нашей политической жизни! Ну что я могу, если вдуматься, вам предложить? Выделять корень? Отличать предлоги от местоимений нас с вами? Вводить проверочные слова? Правильно расставлять ударения? Определять союзы как объединительные и разделительные...
Не много ли я, заштатный фельетонист, беру на себя?! (Аглая, что ты там кричишь? Слезь с антресолей и скажи как следует, тихим голосом, все, что ты хотела мне поведать! Нет, я не «зря унижаюсь».
Конечно, я твой мужик и я – велик. Но эти дяди и тети, мои невнимательные читатели, – люди взрослые и, несмотря на высшее, как правило, образование и, как минимум, средние способности, изрядно подзабыли правила разбора предложений. Но отлично помнят, кто здесь у нас в государстве первое лицо, кто второе, кто приставка, а кто и междометие...)
И среди нас, русскоговорящих, – гласные редки, зато какое-то умопомрачительное обилие согласных – глухих, как тетери, и звонких, как барабаны. Такая уж наша морфология, А теперь – лезь на антресоли, там не только пыль, там – интересно. И опять веди себя тихо, а я отвлекусь на обучение читателей читать и понимать именно мои сочинения на примере упражнения из «Русского языка для 2-го класса».
Припишите к словам проверочные слова.
«Мирное урегулирование не означает изменения статуса столицы Израиля».
Проверочные слова: «Столицей палестинского государства должен быть Иерусалим, и только он» (Резолюция февральского пленума Исполкома ООП, Иерихон-Тунис).
«Достигнуто секретное соглашение между Израилем и палестинской автономией о выводе сил ЦАХАЛа из арабских городов на Западном берегу» («Аль-Кудс», Иерусалим).
Проверочные слова: «Официальные представители Израиля и палестинской автономии опровергли это сообщение» (Рейтер).
«Перед вылетом в Дамаск Кристофер заявил, что ожидает скорейшего прогресса в израильско-сирийских переговорах» (Израильское ТВ, 12.03.95).
Проверочные слова:
«Понимая, что израильское правительство, даже самое “голубиное”, не согласится выполнить условия, предлагаемые арабскими партнерами, сирийцы и палестинцы надеются на то, что американцы нажмут на Израиль и заставят его принять эти условия» («Джерузалем пост»).
И т.д.
Ну вот, опять! Опять пытался научить своему, а съехал на навыки чтения чужого! Ну какой я после этого педагог! Не говоря уж об квазиэгоцентризме моем пресловутом! Значит – это рок, судьба! Значит, опустим в бессилии руки. Но мой скорбный труд не пропадет. Зато вы, дяди и тети, обогатились новым навыком чтения. Читать не мои тексты мы, таким образом, научились. А навыкам понимания моих текстов мы посвятим какое-нибудь свободное время. Продленного Судного дня, например. Причем начнем с чего-нибудь простенького, для легкого и незатейливого усвоения... Но – в следующий раз.
И все-таки давайте договоримся. Сначала – читать. Потом – понимать. А потом уже писать письма в редакцию. А обижаться? А обижаться на меня лучше всего до начала беглого чтения. Так легче пойдет материал!
Слезай с антресолей, Аглая! Большая Перемена.
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Аглая бросила (что с нее взять, если она так ставит вопрос?): – «Или шницель или я!» В смысле – «сердечной привязанностью, мэтр, сыт не будешь». Сам знаю, меркантильненькая ты моя! По ночам снится черт-те что: бефстроганов снится! Причем он – это еще самое приличное, а то все фляки, фляки...
Но – честь дороже. Не продаю музу за деньги! Держу фасон, я творец или кто? Не работаю. Месяц, другой... И ослаб я. И сошел я с дивана. И вышел я на площадь. Лицом к народу. Одухотворение полное. Праны с голодухи по всему телу гуляют, бурчат праны даже не в животе, а – везде. Чакры открыты (запахам из кафе и фалафельных, я вам скажу, тем еще!). Вокруг публика снует: хорошо поевшая публика. Некоторые (к которым я, видимо, обедать не ходил) даже раскланиваются. Но подавляющее большинство не узнает: похудел я, что ли?.. Или – не продавая вдохновенье – вышел из моды?.. Весь?
И вдруг – вижу: Она. Она! Описать – не берусь. Похожа на... Нет слов, букв. В общем – все, как я люблю. Даже – лучше. Стоит на углу, правда, но, несмотря на это, в лице – невинность. От застенчивости, наверное, перебирает в руках здоровенную цепь, конец которой побренькивает за углом. А взгляд – взгляд бездонный, устремленный в занебесье! Не боюсь этого слова: без-дон-ный. (И слова «занебесье» не боюсь.) Я, признаться, мало чего боюсь, когда окрылен. А окрылен я был так: на беспутной голове моей – берсолино. Плечи овевает крылатка – плащ-палаццо импортный, вкруг выи – кашне, в углу рта (это который ниже угол, после последнего удара) – мундштук драгоценного дерева. Я для непринужденности стрельнул сигаретку, вставил в мундштук и – к прелестной незнакомке. Упругой, низкой (откуда силы в диетическом – сорокапятилетке – мужчине?) походкой ходока:
– Сударыня...
– Га?! Ой! (О, это южнорусское «га»! Верней – «ха»! Мягкое, фрикативное – «гха». Пишется как «эйч». Иногда так же и произносится. О, это южнорусское «га»! Я был сражен. Я уже любил ее. Пылко. Я уже почти хотел от Нее детей. Много маленьких Генделевых. И чтоб все говорили: «hа» – «hа, аба!»)
– Ой, ой! – сказала она, впиваясь бездонными (я не боюсь этого слова, нет, не боюсь) очами в самое – меня. – Я тебя знаю!
Откровенно говоря, я затрепетал. Вообще-то я не очень поощряю узнавание на улице меня, мое известное лицо. Потому что за этим обычно следует или – «о, конечно, я вас знаю, вы Аркан Карив (Анатолий Щаранский, Леонтьев и т. п. Один раз я был опознан как Савелий Крамаров в гриме), или предложение пропесочить «их всех в газете за невнимание к нуждам». Но! Но в этом случае я был уже без ума и от «ты», и от «я тебя знаю».
– Я тебя знаю, ты – Генделев.
– Чем могу служить? – сказал я непринужденно (мундштук на отлете).
– Ты – правда Генделев (Хенделев)? Правда?
– Крест – святая – икона, – произнес я с горячим убеждением. И посмотрел на нее волшебно. – А вас как зовут?
– Вирджиния. Можно просто Джина.
(Как она это произнесла, сама – невинность!)
– Вирджиния, – сказал я трепеща, боясь зайти слишком далеко, вдруг спугну.
– Вирджиния... Я так рад...
– А я-то! А то стою, ни одного знакомого...
– Дык, – понимающе выдохнул я.
– А тут ты! Это какое-то чудо! – Цепь в ее руках зазвенела.
– Дык, – сказал я, чуть не поперхнувшийся слюноотделением и разделяя ее восторг всецело.
«Какая из нее выйдет Аглая! – возмечталось мне. – Бьютифул, а не Аглая! Подключу телефон. Вернусь к творчеству. Куплю стейки, нет, даже антрекоты! Пойду на все ради нее».

– Ты мог бы?..
– Могу! – отрубил я.
Она вся осветилась внутренним огнем счастья и побренькала цепью.
– Ой, правда?
– Слово ветерана. Все могу! И превознемогу!
– Ой? Ты можешь постоять здесь и подождать меня? Чуть-чуть? Колготки порвались. Видишь?
(Я увидел. Не хотелось отводить глаза.)
– Я слетаю в универмаг. Одна нога здесь...
(«Нога, – подумал я. – Нога, нога...»)
– Я сделаю все – и несколько раз. А стоять буду – всю жизнь! Джиночка.
– На! – сказала Виргиния, протягивая мне цепь и улыбаясь как ленивая вспышка магния. – На!
И, уже убегая, попрыгунья, крикнула из-за плеча:
– А то меня с Мусей не пускают!
И скрылась в дверях. Воздушный поцелуйчик.
Я проводил ее взглядом.
«Буду ждать тебя, буду! – кричало геть (hеть), приплясывало во мне все. – Буду ждать тебя, Вирджиния, Ассоль ты моя. Солнечная девушка. Ау, ау, любовь моя». «Очень качественная девушка, – сказал я себе, теребя цепь. – Оч-чень. О-о-о...» И меня размазало по стене. Цепь мгновенно, нет, молниеносно натянувшись, бросила меня об угол дома, я упал, оглушенный.
Сюрприз, решил я. Музыкальный подарок с пятого столика. Но я был неправ, о, как при этом цепь опять дернулась и выволокла меня за угол! И настоящий сюрприз ждал меня, как это часто бывает, за углом. Там меня ждал Муся. Собственно говоря, Муся – тварь шире меня в плечах и значительно выше меня, даже когда я на четвереньках, – был удивлен не меньше, чем я. Судя по реквизиту, он себе в ус не дул, только что крупно накакал и собирался было погнаться за кошкой, запамятовав по обыкновению, что он не вольная кавказская овчарка по маме и не лохнесское чудище по папе, а животное домашнее, ручное, то есть цепное есть – на цепи. К которой с другой стороны приделана хозяйка, т. е. – Вирджиния. То есть – в данном конкретном случае – я. Он не виноват, что его не предупредили. Впрочем, как и меня.
Собак я боюсь средне. Честно – я не люблю детей и собак. Русскому писателю положено любить детей и собак. Я не русский писатель и не люблю. То есть на людях я, конечно, могу, могу сделать там: «тю-тю-тю, какие мы холесенькие, какие у нас уски», или там: «кис-кис-кис», или, на худой конец, козу, но тет-а-тет козу делать не хочется. В особенности – Мусе. (Ах да, чуть не забыл – ударение на «ся»: Му-ся. Это чтоб не обвинили в огульном антиарабизме, хотя все равно в конце концов обвинят.) Да мне и не особенно хотелось делать козу, особенно Мусе.
Муся, увидав, что он извлек из-за угла, отпрянул. И поволок меня за собой. Мимо огромной своей фекалии. И то спасибо. Муся, друг человека, тащил меня на волокуше из бывшего итальянского штучного моего плаща: собака – санитар, сукин ты сын!
Я попробовал встать. Цепь провисла, движение прекратилось. Кажется, он пошел по мне, ознакомиться.
Когда надо мной нависла медвежья башка, я честно зажмурился. Обдало жаром.
«Я несъедобен, – повторял я про себя первую попавшуюся мантру, – я несъедобен, ибо недополучал калорий последний нетворческий период своей такой короткой, если вдуматься, жизни, понял, волкодав? Я духовен; во мне еле душа держится. У меня разлитие желчи, я горьк. Сам же потом, надкусив, плеваться будешь, животное мерзкое! Не смей меня дегустировать, тварь». Над моими прижавшимися к голове ушами посвежело, цепь забрякала что-то минорное, пес отошел. Я сел. Он тоже. Мы смотрели, хотя я отводил (чтоб его не сердить попусту) глаза, – друг на друга. Мы встали. Он – с выражением «ну, ты как хочешь, а я пошел» – пошел, я затрусил за ним. Рулевому управлению он не поддавался, брэксы отказывали, на поворотах я пытался тормозить корпусом, проезжал по брусчатке на каблуках. Он явно шел не в ту сторону, хотя – где та сторона?
Куда он вел меня, куда влек? В бездну? В незнаемое. Ему нравилось показывать мне, безответному бедолаге, город.
– Это какая порода? – спросил любознательный тинейджер у грязнули, меня, проносимого мимо.
– Баскервилль! – прокричал я, не унижаясь до оглядываться.
Мимо мелькали дома, люди, судьбы.
«Ну, ты даешь, Генделев», – сказал мне внутренний голос.
– Д-д-да уж, – заикаясь от тряски, откликнулся я, проходя звуковой барьер.
«На что купился, лох...»
– Лямур, лямур, однако. Солнечная девушка... Ассоль...
«Старый дурак, – диагностировал внутренний голос, – повеса фигов». Отвечать было нечего, брошу все, малодушно решил я. Все. Буквально все. Все брошу. Перспективу на личное счастье брошу, честь офицера... цепь... Цепь?!!! Я бросил цепь.
...Голова кружилась, я обнаружил себя в садике.
Муся остановился. Он повернул ко мне броневой лоб и нехорошо улыбнулся. Судя по оскалу, он сейчас быстренько разберется с невкусным господином, который не хочет с ним интересно бегать на поводке. Я быстренько поднял цепь. Мы опять полетели. Это хорошо, что я недоедал, что я такой легонький, размышлял я, пролетая автобусные остановки, листая бульвары, но жаль, что Иерусалим такой горний, горка на горке, лучше б на равнине, еще немного – и сердце лопнет, в мои-то годы бегать. В глазах быстро темнело.
– Муся! Вот ты где, мальчик мой!.. Пробежав по инерции еще немного, я сел. Вирджиния целовалась с даже не вспотевшей образиной прямо на людях. Сел я в обморок. Из слабых рук выпала на асфальт цепь.
– Спасибо, Генделев, выручил, ну, как тебе новые колготки?
Вирджиния, солнечная девушка, начала закатывать юбчонку, а?
– Ва... Ва... - хрипел я.
– Ваще, да? – догадалась Дама с собачкой.
– Ва-ва-ва... – заходился я.
– Васхитительно? – спросила Вирджиния, невинно кокетничая.
Я покивал, индифферентно посмотрев алыми глазами на качественные лядвии. О похоти не могло быть и речи. «Ва-ва» – это я просил воды, а если быть совсем честным – ва-ва-валидол. С последней прямотой.
Попытку продиктовать мне телефон я отмел вялым жестом евнуха. Я пережил свои желанья: иди с миром, дочка, иди. И песика – с собой, пожалуйста.
А теперь попрошу внести в протокол:
Уважаемые господа – члены нашего правительства и другие официальные лица нашей страны! Леди Шуламит Алони и джентльмены-министры Государства Израиль, вовлеченного в так называемый мирный процесс, каким вы его себе представляете. Господин премьер-министр! Если вас узнали в лицо, если вас попросили подержать цепь – пообещав, что все скоро и непременно будет хорошо, – не торопитесь хвататься за поводок. И особенно наматывать его на руку. Загляните за угол... Отпряньте! Сделайте два-три глубоких вдоха. Так... Так... Хорошо? Ничего, валидол у меня с собой. Ах, вы уже намотали цепь на руку. Ну, тогда бегите, если вы такие уже прыткие... Бегите, скованные одной цепью.
К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ
Как вы уже заметили, я вернулся к творческому отпуску. У меня ведь все – не как у людей. У людей – как? У людей: поработаешь по обрыдшей специальности сапера, револьверщицы или механизатора человеческих душ – и – в творческий отпуск! то есть – чтоб на приволье, в спокойной чтоб творческой обстановке заняться чем-нибудь полезным, для души – стихосложением, резьбой по бивню. Гуляй не хочу. А приходит творческий отпуск – глянь, и роман выкристаллизовался так, что уже можно безнаказанно прочесть прозаическое его многопудье родным и безответным близким за чашкой чая, и лирическое, мать твою за ногу, стихотворение внукам на радость, и клык моржовый буквально не узнать.
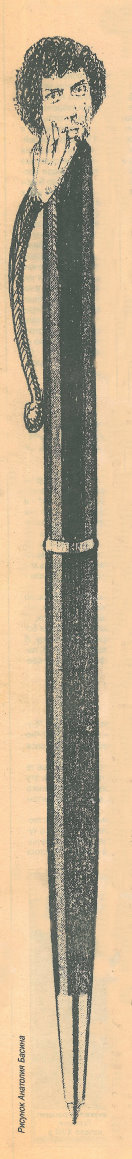 Так у людей. У меня творческий отпуск – каждый Божий день, включая табельные праздники шабес, тезоименитствы и дни всенародного траура. Он не прекращается – мой творческий отпуск товаров ненародного употребления оптом и в розницу, в одни руки. Слезть с магического треножника, отложить сладкозвучную лиру и отогнать присосавшуюся как пиявку музу – некогда, язык на плече. Ибо то, что у других – праздник, у меня, М. Г., – будни, ибо работа наша такая – Творец. Демиург. Горбачусь на ниве творчества. С неоплаченным бюллетнем и без выходного пособия. Сверхурочно, как лошадь. Моему коллеге, тоже неслабому творцу, силенок еле на семидневку хватило. С тех пор у него, если судить по халатности и отвратительному положению дел с Избранным (а кто его за язык тянул?) Народом, – каникулы. А у меня – креативный акт – каждый день и ночь. Я, видите, – профессионал, профи, а не любитель мы. Это воспаленные юноши и нежные наши девушки полагают, что антонимом творчества является труд нетворческий. Дудки! Противоположностью творчества следует законодательно считать праздность – т. е. Безделье!
Так у людей. У меня творческий отпуск – каждый Божий день, включая табельные праздники шабес, тезоименитствы и дни всенародного траура. Он не прекращается – мой творческий отпуск товаров ненародного употребления оптом и в розницу, в одни руки. Слезть с магического треножника, отложить сладкозвучную лиру и отогнать присосавшуюся как пиявку музу – некогда, язык на плече. Ибо то, что у других – праздник, у меня, М. Г., – будни, ибо работа наша такая – Творец. Демиург. Горбачусь на ниве творчества. С неоплаченным бюллетнем и без выходного пособия. Сверхурочно, как лошадь. Моему коллеге, тоже неслабому творцу, силенок еле на семидневку хватило. С тех пор у него, если судить по халатности и отвратительному положению дел с Избранным (а кто его за язык тянул?) Народом, – каникулы. А у меня – креативный акт – каждый день и ночь. Я, видите, – профессионал, профи, а не любитель мы. Это воспаленные юноши и нежные наши девушки полагают, что антонимом творчества является труд нетворческий. Дудки! Противоположностью творчества следует законодательно считать праздность – т. е. Безделье!
Причем: оплаченного творчества – неоплаченное безделье, а неоплаченного творчества – тоже неоплаченное. Знаю, что говорю. Ибо вернулся к творческому отпуску я не от хорошей, а от плохой жизни.
С чем у нас, у Демиургов, – напряженка в г-ве Израиль, так это с творческой свободой. Т. е. – все свободны, а я – не. Разве это свобода? Хочу (за деньги) – творю, хочу (бесплатно) – не работаю. Это ж – зубы на полку, и неча кивать, что они у меня искусственные. Так что отпуск пришлось продолжить.
И – что характерно: по труду я совершенно не истосковался. Истосковался я по гонорарам. Покуда с наслаждением отказывал себе в радости полноценного творческого труда за деньги. Сказались дурные повадки и привычки: привычка есть еду, иногда повадка пить.
Начал скучать по этим обыденным занятиям. Поймал себя на мысли, что готов прервать праздность ради какого-нибудь свойственного дилетантам дела умелых рук резьбы по кости, опиливания, выпили- вания.
Опиливанья зубов, например, на полке.
Свет отключили, телефон отрубили, газ сам кончился, иссяк. Потянуло к труду. Ну ее, свободу, к бесам, ей-Богу. В этой вашей пресловутой свободе просматривается настораживающая тенденция – похудеть ее носителю.
Потянувшись, я было уже собрался раззудить плечо, как не тут-то было! Оказывается, писать – не о чем. Поскольку все, буквально все – уже написано. «Робинзон Крузо» написан, «Поверх барьеров» написан. «Уже написан Вертер». В общем-то, в этом нет ничего страшного. В конце концов, можно поработать и со старыми сюжетами и заглавиями, и даже нужно работать со старыми сюжетами и заглавиями, дабы они не забылись в памяти народной. От склероза. Например, «Робинзон Крузо» – отличный сюжет для фельетончика о новом потерпевшем крушение репатрианте, об обустройстве его на новом месте, о сложных отношениях его с местной козой-нострой и о поиске им друга в йом-шиши. Или «Поверх барьеров» – что-нибудь актуальненькое об обстоятельствах стрельбы в премьера, сейчас все об этом пишут под похожими названиями и заголовками. И все-таки – не хочется повторяться, и по сути – писать не о чем. А значит, я и напишу не о чем. По возможности – не повторяясь. Настоящая поэзия (и – литература. И это не я придумал) – это как раз когда писать не о чем. Это – чистое искусство, а не сиюминутная публицистика – однодневка типа «Преступления и наказания» или «Мойдодыра». Примером для подражания является неувядающее «К моей чернильнице» или не менее неувядающее «Стаи диких гусей на жнивье» достопочтенного Иссы. Или – из него же:
Так кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду.
Согласитесь: крыть нечем, перевод с японского.
Сижу, пишу не о чем. Как раз сочинил первые строчки:
Пока Кондом изобретал гондон,
Немало не дремала мать-природа.
Вот так родился пламенный Дантон...
В дверь постучали.
...Трибун и вождь французского народа!
– быстренько дописал я, чтоб не забыть, и пошел отпирать.
– Старичок, у тебя в доме чисто? Ну, ты-то меня понимаешь? – шепот его перешел в сип.
Он мне подмигнул (я отшатнулся).
– Я тебя понимаю, – стараясь сразу психовать, шепнул я. – В доме – нечисто. (В центре гостиной действительно стояли галоши. На ковре пепел. Посуда давно не мыта, так и стоит чистая, поскольку ею по бескормице давненько не манипулировали. Я одинок, я страшно одинок.)
– Старик, – глаза моего собеседника округлились, – идет охота на ведьм. Старичок!
– Хорошее дело, – одобрил я. – Давно пора. От хиллерш проходу нет. И Белых магинь. Снимают сглаз буквально со всего. С корнями. За недорого. С фудпроцессора порчу снимают, с эпилятора. (Я тут по рассеянности – еще в пору экономического процветания – приобрел по системе «Товары – почтой» прибор. Для безболезненного удаления волосяного покрова в носу и в ушах. Ну, как вам сказать... Жужжит. Вибрирует. Причиняет невыносимую боль в носу. Так гверет Анат, одна захожая колдунья, в принципе навестившая мою обитель посоветоваться на предмет преследовавшего ее красного свечения, увидев прибор и лукаво на меня посмотрев при этом – «Честное слово, Норочка, не подумай дурного, это не вибратор!» – взялась на общественных, так сказать, началах и по дружбе снять сглаз с прибора. Чтоб не только жужжал, но и волосы удалял. Я из любопытства согласился. Так что? А то, что действительно – и жужжит в носу как припадочный, и волос дерет до слез, аж дрожит. Но – бьет током, зараза. А от тока ее заклинанье не помогает. Электрошок – это по ведомству Ормузда, а не Аримана, войдите в ее положение.) Так вот: сглаз снимают, чакры как фортки открывают, исцеляют мужскую – даже когда их не просят – слабость, наводят казни и гадости (финансовые трудности, например), оздоравливают до физкультурности ауру, бросают тебя пить, курить, привораживают всяческих идиоток, окропляют твое помещение, после чего жди нашествия рыжих тараканов, и предсказывают будущее, от которого столбенеешь. Так что охота на ведьм – это очень, я б сказал, актуально и гуманитарно. Хорошее, здоровое начинание. И шкурки снимать, не портя мездру.
– Идет охота! Тебя слушают, старик? – он косо показал шеей. И опять подмигнул.
– Даже дочка и то нет.
– А это что?! – он опять крутнул шеей прямо в телефонный аппарат.
Я понял. Я снял трубку.
«Безек шалом! – сказали мне приветливо. – Кав телефон ха-зе менутак зманит ле сихот йоц'от экев иташлюм...» (Я сказал в ответ. Они выслушали.)
– Жучки в доме есть? – не отставал тихий гость.
– Были. Муравьи. Ушли с голодухи, их капитан ушел последним.
– Ты понимаешь серьезность момента?
– Еще как, – сказал я, – еще как!
– Так жить больше нельзя!! Надо что-то делать!
– Как ты прав! И нельзя, и очень кушать хочется. Надо что-то делать. Например, работать.
– Святая простота. Идеалист! В Башне из слоновой кости не отсидишься!
Я приосанился. Моя башня мне нравилась. Хотя действительно не отсидишься – плохо отапливаемая слоновая башня.
– Ты помнишь, что ты писал?
– Насчет чего? Я столько понаписал в жизни, всего не упомнишь...
– «Насчет чего, насчет чего...» Насчет режима.
– А что я написал насчет режима?
– Что у нас в стране правые – идиоты, а левые – сволочи.
– Я? Это написал? А что – хорошая, верная мысль. Тебе не нравится? По-моему, в ней что-то есть, во фразе. Это я – написал?
– Ты с ума сошел. В свете последних событий...
– А что, теперь надо – наоборот?
– Старичок... Теперь вообще – не надо. Надо быть готов. У нас – красный террор.
– Да? – я стал разминать застарелую диссидентскую мускулатуру.
В юности я очень любил находиться в подполье. После первого брака – мне надоело. В подполье негде было развернуться. Не говоря о поставить письменный стол. Поэтому я и иммигрировал. Верней – репатриировался.
– У нас, говоришь, красный террор?
– Старик! Корреспондент «Комсомольской правды» написал, что у нас весь ШАБАК набит правыми экстремистами! (Между прочим, именно в этом духе и написал спецкор главной газеты Израиля – «Комсомольской правды». Не передать, как я ржал. – Прим. М. Г.). И теперь – его (ШАБАК) поэтому разгонят... Понял?
Я задумался. Во-первых, мне совершенно не понравилась идея разогнать наш с вами ШАБАК, кому бы она ни принадлежала. ШАБАК – это все-таки контрразведка. Без нее чувствуешь себя как-то не по себе... Малоодетым в пикейный бронежилет. В нашем-то переплете, э? Во-вторых, красный террор, как я понял, будут организовывать наши же раздолбаи, а значит, он не получится. Максимум террорчик у нас будет – бедная маленькая аграрная страна – еле-еле розовеньким. В-третьих, у меня есть еще «Общество чистых тарелок» – так что свобода слова мне гарантирована.
– Да! – сказал я. – Ну и что с нами (я заглянул в панические зрачки собеседника) со всеми (еще раз заглянул) – будет?! Со всеми?!
– Старик! Душат вольное слово!!!
– Цудрейтер, – сказал я, – нас не перевешаешь. (Тут я, конечно, преувеличил. Например, можно с легкостью перевешать меня. Когда под копытами перебои с ягелем – я часто размышляю о неброском, но достойном выходе для политобозревателя и эсквайра...) Нам не заткнуть (я имею в виду русскоязычную журналистику) – пасть. Мы – из, и из-под земли! – будем пороть правду. Мы – «не могу молчать!». По поводу диктатуры Переса, ад меа ве эсрим. (А из-под земли – точно. Там – Австралия.)
– Старик! – произнес в полный голос визитер. – Старик, я тебе добра желаю...
– Народ и партия едины, – сказал я быстро и громко. – Рабочая партия. Авангарда. Еврейского. То есть – пролетариата, понял? Политику партии Авода – одобряем! Пятилетку – досрочно. В четырехлетку. Наградить товарища короля Хусейна Хашемитова Восточным Иерусалимом в масштабе один к одному. В полный рост. Так ему и надо. Он с ним попляшет.
Гость бледнел. Я подошел к стене и быстро произнес: «Биби – на фонарь!» Это раз! Подождал. Аплодисментов из стенки не раздалось.
– Вот видишь! – победоносно сказал я посетителю. – Не все так трагично. А чтоб ты убедился, что мы живем в демократическом государстве рабочих и крестьян... – я набрал в грудь вольного воздуха нашей родины...
– Не надо... – взглядом молил меня посетитель, – не надо, мой хороший!..
– Надо! – дал ему понять взглядом я.
И прошептал в то место, где стоит утюг, но где раньше – до того, как его описали и вынесли, – стоял телевизор, трофейный КВН: «Йоси Бейлин, ад меа ве эсрим ве ахат, ведет нашу нацию к катастрофе!»
И вдруг. И вдруг я понял, что в доме подозрительно тихо. Не напевает Аглая за стеной какую-нибудь колыбельную. Не звучат гусли под окнами, неувядаемые трембитники нашей Бен-Йегуды. Птицы не поют. Голуби не поют совершенно, дисквалифицировались, сизокрылые. Деревья не растут. Насторожились, наверное. Или я что-то не то сказал? И – сокол, многократно описанный мной в поэтических моих высокохудожественных произведениях, сокол, совершенно не срет в полете на головы прохожих. И прохожих – как сдуло. И собеседник мой – истаял и растворился в воздухе, в вольном авире моего горного Йерушалаима – мой гость какой-то запоздалый у порога моего. И понял я, что доверять самое что ни на есть сокровенное я могу только своей чернильнице. Что когда не о чем писать – таки-да, надо писать ни о чем: к чернильнице. Ей еще можно доверять.
БАХЧИСАРАЙСКИЙ САРАЙ
Ну хорошо: ежели балдахин над постелью протек, это еще полбеды, дело привычное, хотя, согласитесь – навстречу утренней Авроре выходить в мокром неглиже и – не в настроении...
Это еще полбеды – беда: нечем набить чубук. Нашел чей-то нательный крестик в кровати, главное – не ошибиться, возвращая б. В прошлый-то раз перепутал, Аглая, душа моя, дулась – пришлось брать ссуду у жидов, съездила на Родос, вернулась посвежевшая, как с Лесбоса. Был прощен. Полночи сочинял при свечах, свет отрубили, «Мелеха Баруха». Есть удачные – так разумею – находки – «амха безмолвствует». Боюсь, Фаддей не пропустит, в связи с актуалиями.
Звонили. Ох уж эти звонки. Намедни:
– Сан Арапыч?..
– ...Пардон! Александр Сергеевич, с вашего разрешения, слиха...
– Бесэдэр. С вами говорят из канцелярии Бенкендорфа... Не отходите от телефона...
Я думаю: ну что еще?.. опять начинается.
– Слушаюсь, – говорю. На всякий случай.
– Шурик, что там у тебя?
– У меня, – говорю, – все бесэдэр, а что у тебя? (Главное – не сбиться с тона «ты», мол, все свои, что там: один народ, одна вера, одна – чтоб она мне была здорова – власть.)
– Шурик, ты че там понаписал?
– А «че» я там понаписал, Ваше сиятельство?
– Ну «витий» я имею в виду. «О чем шумите вы, народные витии»... Ты написал?
– Угу. А что, не понравилось?
– Та не... Ты ж знаешь, я – твой читатель! И супружница обожает, особенно кулинарную страницу... «И страсбургский пирог нетленный»... Можешь же, если хочешь!
– Аск! Так что с витиями...
– У тебя там, подожди, сейчас очки надену... где там... вот! «Стальной щетиною сверкая»... Ты писал?
– Они.
– Щетиною?
– Щетиною.
– Ну это как-то... Некошерно. Особенно в связи с...
– ...последними событиями, да? Что? Вычеркнуть? Могу написать «дубленой шкурою», а?
– Ну, не... преувеличивай. Вычеркнуть – не вычеркнуть, тем более что все экземпляры уже не конфискуешь теперь. Но впредь поаккуратнее надо, ты ж знаешь. Мы тут все за тебя боимся, старик.. Мелеха-то своего пишешь? Баруха?
– Есть малость.
– То-то же. Пиши-пиши. Декабрист ты наш...
– Тода.
– Ну бывай. Слушай, мне некогда, но тут одна твоя поклонница тебе кое-что сказать хочет... Так что я прощаюсь. (В трубке крякнуло.)
– Александр Ганнибалыч?..
– Сергеевич...
– Александр Сергеевич, ты знаешь, я от тебя без ума, мы тут все так ржали, так ржали, тебя читаючи, с девочками. Но я по делу. Александр Ганнибалыч, ты б не мог к нам в канцелярийку подбежать, кое-что заполнить, тофес тут, подписочку... Пустяки, конечно... О невыезде. И немножко о неразглашении. Да? Завтра в 10.58 я жду. Кофейку попьем. Шалом.
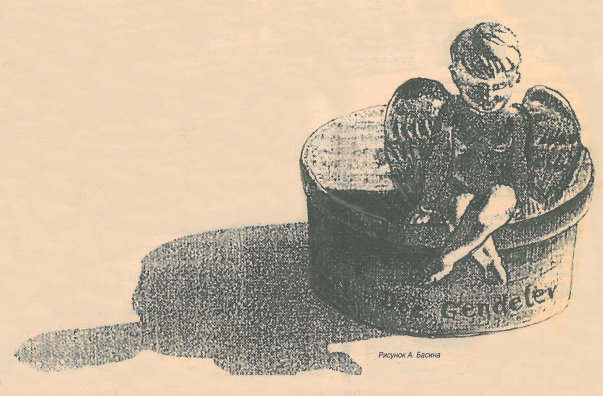
– ...Господи, как курить-то хочется! Одно ничего, забегала по пути на работу Наталья Николаевна, заскакивает иногда по старой памяти, да и Ланской снисходителен, неплохой в сущности мужик, забегает Наташка, посуду помоет, стирку заложит, окурки выкинет... М-да. Наташа, старый друг, зная, что по утрам маюсь, и... принесла. На пару чебучков. Рассказала последние сплетни. «Горчаков послом в Бишкеке, всегда был востр. Дельвиг – в Оклахоме, ах, Дельвиг, Дельвиг... Совершенно там не общается, не крутится в свете ихнего “джуиш комьюнити”, не любит аристократов...» Кюхельбекер? Чуть не забыл!
– Кюхельбекера можно? Алле, плохо слышно... Алле, алле! Якутск? Господина Кюхельбекера... Спасибо, милочка. Кюхля? Как дела, шлимазл? Да? Ты не Кюхля? А кто? Ах, ты, то есть вы – Дистрибьютор? А где Кюх... то бишь Вильгельм Карлович? У него брифинг по маркетингу? Совещается с крышей? Крышами трутся? Может, подойдет, скажите господину Президенту правления – Сашка, мол, звонит. Из Иерусалима. Нет, не из Нового Иерусалима. Из старого. Хорошо... я подожду... Что просили? Уведомить?! Уведомить что? Что слабы-с. После наезда-с? Разборки-с? Осколки-с? Противотанковой мины, блин? Передайте, чтоб берег себя...
Эх, Кюхля, Кюхля. Всегда был неудал. Так вот, Наталья Николаевна забегала, Аглаю, естественно, не одобрила, рассказывала: Вяземский пошел выпускающим в «Вашу страну», жить-то надо... Жена его прошла гиюр, меняет парики как перчатки, ветреница. Дочка в махоне для благородных девиц. Сын – в тихоне, умница, учится, уже влез в банк данных Таасии Аверит, носит в дом.
Жуковский поет на гитаре свое КСП в блинной. Несмотря на 60-е годы. Сменил фамилию на артистический псевдоним «Джюки». Безбородко отрастил все, осел у хаббадников, перестал здороваться. Ланской – ейный – в милуиме. Как говорится, печаль моя светла. Видели Норку Керн. Мыкается – никайон на никайоне. В ее-то возрасте по людям...
Но все как-то устраиваются... Бэзрат ха Шем...
– Але?.. Нет, это не Шушенское. Это – Болдинское. Здесь нет Бузагло. Здесь роняет лес багряный свой... Эйн б'дма.
Голова-то тяжелая, ясно отчего. Денис бен Давид «голду» и сам употребляет как слон, так еще и мою печень гнобит.
– Алле? Какой журнал? «Барышня-крестьянка»? «Елдонет-киббуцницот»? Пятничное приложение? Да. Есть новенькое. Специально для вас, шедевр.
«В последний, дева, раз
тебя почтил вставаньем
унылый аппарат,
очей очарованье»...
Как что я подразумеваю? Под девой? Ах, вы...?! Сексуальный журнал меньшинств?! С феминистским креном? С креном – не могу. Может, из старого?
«Дева, ног не топырь
Залетит нетопырь»...
Нет, это не Губерман. Это... Постараюсь быть «тов». С каким приветом?.. Сам такой. Ах, вы теперь «сам»? После операции... Тогда сама такой.
Алле. Ну. Дома я, дома. Что там? Почему сняли из номера?! Да, «за решеткой». Ну. «В темнице сырой»! В...? Вы что, ребята, там охренели, милс'вые государи?! Какой шабак? «Грустный товарищ... махая крылом»? А-а-а?.. Ну, если так... А о ком надо? Чтоб «он весь как Божия гроза»? Я не могу все время одно и то же про товарища... Согласен... Согласен... Слушаюсь.
Аглая! Аглая!!! Ну где ты? Детка, накапай мне... Ты что, мишугинэ? Я не пью валокардин. Я пью...«Экстрафайн»? Гадость, конечно. Враги приносят, злые, бессердечные люди... Лехаим. «...И пунша пламень голубой». Или «золотой». М-да. Хаим зе ло пикник, воистину.
Алле! Можно, можно интервью! Мне вас слышно... К сожалению... Даты жизни? Проверим? Конечной даты – нет, не знаю, что и делать. Да! Как политобозреватель, да... лопатой гребу. Свои доходы считайте. Политологическая библиография? Извольте.
«Бахчисарайский сарай», «Злой чечен уполз на берег»... «Хасбулат молодой»? Это не я. «На холмах Грузии и Абхазии». «Царь Борис»? – дался вам этот царь Борис, достанете – переименую! «Песни южных славян»? Это Мериме, из «Франс пресс»... «Медный задник»? Фи!
Это подделка, эпигоны, знаете. Что я думаю? В открытый эфир? М-да... Для русскоязычных? Тогда – легче. Я думаю, что не пропадет, как сказал аномим, наш скорбный труд, в некотором смысле, извиняюсь за выражение... О ком я это думаю? Нет, не о партии Труда я это думаю... Я вам сказал только как частное лицо. Чего пожелать радиослушателям? Безумного бешенства желаний.
– Алле. Ну как ты там? Что делаешь? И с отвращением читаешь жизнь мою? Мил друг; займись чем-нибудь полезным... Ах, Геккерн-таки дал тыщонку. Слушай, Дантесик, одолжи двести шахов... До получки... А? Крест святая икона – верну. Да зайди хоть сейчас. Дома я, дома! Куда я денусь? «Царь Борис»? Думаю, да, поставят! Первое отделение – я шучу, то, се – фельетончики. Публика это любит. Второе отделение – почитаю стишки. «Третье отделение» – ну, оно и есть III отделение... Кстати, вот со сборов и отдам... Ты зайдешь, Дантесик, или как?
– Алле. Нет. Это не Шушенское. Это Михайловское. В честь Генделева Михаила. Ми-хай-ло-вское. Самюэлечевское. Нет здесь мишпахат Бузагло! Пока. Эйн б'дма...
– Алле. Это книгопродавец? Ма шломха?
– Поэма, говорят, готова, плод новых умственных затей. Итак, решите; жду я слова: назначьте сами цену ей...
– Ну, скажем, восемьдесят за строку. Минимум, а? По расценкам Федерации писателей или Бауха... Плюс, то есть минус – маам.
– О чем вздохнули так глубоко, нельзя ль узнать?.. Плюс маам.
– Потому что, поэт беспечный, кретин, я писал из вдохновенья, не из платы... Минус.
– А музы случайно сладостных, как я понимаю, даров не унижал постыдным торгом?
– И слава заменила вам мечтанья тайного отрады? Вы разошлися по рукам.
– Ага. Пошел по рукам. Ну что делать? В номерах служить – подол заворотить... Что слава? Шепот ли чтеца? Гоненье ль низкого невежды?.. Иль восхищение глупца? Ну хорошо, пусть будет по-вашему – минус маам.
– Люблю ваш гнев. Таков поэт!..
– И политобозреватель. Тоже – таков: плюс.
– Бесейдер. Вот же вам совет. Внемлите истине полезной: наш век – торгаш... Минус маам.
– И барыга. И наперсточник.
– ... в сей век железный без денег и свободы нет...
– Я согласен на пять восемьдесят... Что слава? Жалкая зарплата... на ярком рубище певца. Нам нужно: злата, злата, злата!..
– Извините... (Что тебе, Аглая? Что «какая Злата»? Не ревнуй девочка, не ревнуй...) Да, я вас слушаю, верней – продолжаю... Не продается вдохновенье...
– Так можно рукопись продать? Плюс маам. Что медлить? Уж ко мне заходят нетерпеливые чтецы; вкруг лавки журналисты бродят...
– ...За ними тощие певцы. Договорились? Ладно, пора в конце концов написать что-нибудь стоящее... Аглая, сядь к компьютеру, я продиктую:
«Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат
(Не михайловский приказчик),
Что?– бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи!
Чудо – жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же – то смертельно пьяны,
то мертвецки влюблены».
– Аглая! Иди открой. Это Дантеска. Денег принес. Что бы я без него делал?
– Привет, старик... Извини! Секундочку... Алле!? Нет, это не Шушенское. Нет здесь мишпахат Бузагло! Пока еще – нет. Эйн б'дма.
ПРОЩАНИЕ С ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ЕЛЬЮ
C наступающим тебя, старик, береги себя, с Новым годом тебя, Самюэльич, желаю тебе – ад меа ве-эсрим, в новом уже году!
Я расстроился. Ну куда ж это?.. Ведь ни в какие ворота... О, совершенно не ожидал, что уже. В общем... мда. Надо же! Кажется, еще, ну ладно, не вчера, так позапозавчера отмечали Новый год.
Кажется... юбилейный.
И не то чтоб я был значительно свежее; скажем, я был несколько оживленней. И меньше предавался стариковской радости воспоминаний. Помню – гусь был!..
Во – был гусь! И кто тянул за язык тогдашнюю Аглаю разгласить, что – под видом гуся – я подал... Счас бы она себе позволила, как же! Счас б разгласила б. Я б ей б разгласил б!!! Они теперь ученые, молчуньи они теперь! Даже адрес мой не разглашают.
Теперь, подай я под видом гуся игуану «по-генделевски», – ели б, слезы бы глотали, но молчали б! Б! б!!! Чтоб.
Мда. Помню – был «гусь». Потом – выпили за старый год. Помянули. Потом – я проснулся, и мне рассказали, что был тортик. И по-моему, у меня в то время была семья.
Я сидел по-патриарши во главе стола, вокруг сидели Аглаи по старшинству по убывающей. Далее – Почетные Аглаи. Зашло поздравить несколько жен с моими учениками...
Хороший был Новый год. До сих пор очухаться не могу.
И – на тебе! Опять – новый год.
И наилучшие пожелания.
Мне вообще, когда я наконец пригляделся, разонравилась эта формулировка: «с наступающим». То есть: он еще и дразнится, он, видите ли, – новый и наступающий, а я, видите ли, – старый, яд шния, и – отступающий.
С чем и поздравляем: «Но-у-выйй-го-уд!..»
Приходили пионеры. Пригласили выступить у них на елке. Пионеры – поселенцы, а елка – из кипариса. И чтоб я – со своей снегурочкой.
Вестимо.
Дозором.
Владенья свои.
Транспорт свой, полиция тоже – своя, местная, палестинская.
Поздравили «с наступающим!» Чего бы я на их месте не делал... Я им подарил сушеную суфганию, дабы повесили на свой кипарис. На веточку имени меня.

Они предложили мне спеть что-нибудь из «не своего»: ушли они на музыкальной фразе «...бешеный, как электричка»... Фразу они повторяли, спускаясь по лестнице. Соседи мои, почтенные укорененные семьи, выглядывали из квартир и выражали сочувствие криками: «Ни шагу с Голан!». Мишпахат Бузагло скандировала: «Мишка – мелех Исраэль!»
Пока я, пригорюнясь, обдумывал, где бы на рош ха-шана достать игуану, чтоб зажарить, и – телевизор, чтобы не пропустить выступления в честь наступления тов. Зюганова и бой кремлевских курантов по Москве – чтоб выпить с народом, позвонили и пригласили выступить. На общественных началах. Перед слепыми и плохоразличающими.
Я сказал поначалу, что на любых сборищах Деда Мороза изображать, конечно, согласен, но не «на общественных началах», а – за деньги.
И чтоб – ползала снегурочек и снежинок «на общественных началах». Но они мне сказали, что они – действительно такие и снегурочку чтоб с собой, а максимум, что они мне могут предоставить на выбор: собаку-поводыря. Но зато – навсегда...
Потом позвонили из редакции и указали, чтоб и рождественскую историю, и – с хорошим концом. Я, разумеется, подумал – что последнее могу сразу.
Они, разумеется, заржали и спросили, что я имею в виду. Я сказал, что совсем не то, что – они, а совсем даже про то, чем все это закончилось для виновника торжества на Пейсах. Тогда они указали, чтоб я написал что-нибудь рождественского – про себя. Я заметил, что, судя по всему, самое веселенькое про себя могу написать, но только на мотив: «и, как Христа, тебя сняли с креста, и йом-ришона не будет». И начал им это петь. Они сказали хором, заглушив меня, что у них встали компьютеры, что – это не смешно про конец и чтоб я обдумал свое поведение. В русскоязычной среде.
Я начал обдумывать свое поведение, но позвонила моя умница и красавица дочь: ей нужен новогодний подарок. Зайчишка-зайка серенький. В форме шубки-косухи вытачкой и на молнии. Я спросил ее, где ее серенький волчок (за месячный гонорар всего прошлого года приобретенный). И взялся за бочок. (Там у меня стальное сердце отца.) Она сказала, что русский волчок вышел из моды и теперь канает только зайчик серенький. (Ровно год работать, включая полярную ночь.) Я произвел запрос: а не хочет ли она увидеть живого еще старого вепря в натуре?! На предмет драть три шкуры?! Она тоже, в отместку, поздравила меня ад меа ве-эсрим и сказала, что зайдет в новогоднюю ночь навестить старика и гуся. С хавером (в смысле, – придет с хавером). Я с трудом удержался от ассоциативного мышления и пробормотал, что буду рад... познакомиться с... хавером. Я, во всяком случае, – уже готов. Осталось подготовить игуану.
Позвонили из русскоязычной среды. Запросили: это ничего, если они придут ряжеными. Я сразу отрезал, что лучше со своей едой, питьем и лучше не приходить. Особенно если они будут колядовать.
В прошлые разы и годы – так было мне заявлено – ребяты колядовали, а теперь что – и покалядовать в новогоднюю ночь нельзя? На родине предков?!
Я напомнил, что мои соседи – почтенная семья Бузагло – в прошлый раз были недовольны колядованием, пришлось им переводить сурдопереводом. И объяснять, что это старинный - олд тра-дишн - обычай антисемитских народов и русские без этого не могут. А Колю, главного колядовалу, вообще пришлось выдать за Бовина. Он выдался за Бовина (я – за Хакамаду). Меня спросили, где Нафтали Шыранский и вся ли здесь «русская парти». Я ответил, что Нафтали под елочкой, аколь беседер. И что поет - Лариса Герштейн, так что все – нормалек. Помнится, Бузаглы тогда прошептали, что они, затаив дыхание, ждут нового нового года в стиле олд рашн традишн. И что их выбор: женщины России. Только чтобы я перестал быть Хакамадой – пугаю.
А в эту грядущую новогоднюю ночь мишпахат Бузагло решило смыться ла-хуль. Ничего: если их здесь не устраиваем мы – старые проверенные «русские», – там (б'хуль) они напорются на «новых русских». И колядование наше им придется по душе, крест святая икона, век воли не видать! (А есть еще у нас и Ликуд с русским акцентом!)
И раздался звонок! Ликующий голос из магазина «Басар лаван ве-кахоль» сообщил, мне, старому (чтоб их перекосило!) клиенту, что у них мивца «рош ха-шана» специально для русских. Поступила партия.
Я спросил:
– Вся?
– Огромная. Только для своих.
Я насторожился. Почему перед новым годом? Ничего себе – подарочек! Рано как-то.
Успокоили:
– Поступила партия. Как раз для меня. (Я опять насторожился.) Свежезамороженных, по бросовым из России ценам – игуан. Некошерность гарантируется. Идут нарасхват. Снулые.
Просто – камень с души упал! Я попросил: отложить мне. Чтоб помясистее. Мне сказали, что специально для меня, их старинного (чтоб они мне были здоровы!) потребителя, они из всей партии выберут самого крупного. Лидера. Наименее отмороженного. Почти готов к употреблению. И что они желают мне ад меа ве-эсрим.
Что они – сговорились?!
Позвонили:
– Миша Генделев, где вы собираетесь провести Новый год? – Голос командный.
«В Израиле, – думаю. – Если еще будет – где».
– А что? – говорю. (Чтобы сразу не поддаваться на провокацию...) – А что, – говорю осторожно, – есть уже указания?
– А то, – говорят, – что у нас мивца «Здравствуй, новый оле – Новый год!» Выставка. Выставляем...
– Когда выставляете? Вещи с собой брать? У меня реликвии. Я, знаете ли, – здесь новый оле – 18 лет, обжился; то-се – сувенирчики: горсть Святой земли, повестки в суд, воздух Святой земли. В банке. Урна. Моя. Избирательная... Можно, я возьму их с собой? А? Узелок на память? Есть еще фотографии. Пара-другая. «Генделев – в Ямите», «Генделев – в Бейруте», «Генделев – голосует. Тремп не тормозит», «Генделев не дает обмануть себя дважды». А вот еще скульптура – бюст, как живой: «Генделев ест еду» И другой бюст, маленький, – слезы наворачиваются: «Маленький Генделев на маленькой родине, обняв ее от края и до края». Когда выставляете?
– Мы не тебя. Мы олим – выставляем. Мы – русский ресторан. «Привал веселого репатрианта». Тут можно провести новогодний вечер с 9 вечера до 21.45 вечера в присутствии «известных звезд эстрады». За 666 шекелей, плюс мам, плюс мас несиет. Стаканчик сока, печеньице, неувядаемый ни за что сатирик Петросян. С участием фонограммы Аллочки. Девочки местные. Русский дух! Выставляем. Заодно – обуем. И снова нальем. Лох самеах! Запомните: мивца «Здравствуй, новый оле – Новый год!» Кстати, при заведении есть массажный кабинет. Массаж простаты.
Опять позвонили из редакции. Попросили, как ни странно, – меня. Надо же!
Я, говорю, не могу веселенькую рождественскую историйку. Отвлекают, говорю. Массаж, говорю, простаты. Чего уж тут веселого? И Петросян.
Генделев, говорят угрожающе. Пусть конец будет не веселый. Но чтоб – счастливый. Ты – наш эксклюзив. Помни.
Я сел, пригорюнился, начал помнить, что эксклюзив.
Пришли из...
Предъявили документы на арамейском, кажется, языке, на предмет...
– Елочка, – говорят твердо, но тихо...
Угу. Елочка.
– В лесу родилась?..
– В лесу... кажется, 10 мая, ей уже было 18 – совершеннолетие.
– Росла... она? Она росла?
– В лесу она росла... метр восемьдесят.
– Зимой?..
– И зимой и... летом.
– И – летом... Родители – евреи? Вы их знали?
– Знал. Отец – кедр, но ливанский. Мать Пихта Исааковна... Мать – еврей. И бабка – еврей: шишка. Лежит в земле.
– Стройная?
– О! Елочка?
– Нет, бабушка... Елочка!
– И еще вопрос: зеленая была?
– Была. Но свечи зажигала по субботам! Т. е. по пятницам, прости Господи.
– Мороз... Вы его знали?.. Мороз – еврей?
– Я знал двух морозов!..
– Ну и...
– Ну и – еврей. Дед Мороз и Дов Мороз-Сатмарский.
– Короче. Мороз... ее?..
– Ну знаете, я свечки не держал!
– И все-таки?..
– Ну...
– Ну?!!
– Ну, окутывал...
– Как он ее окутывал? Эйфо окутывал? Кама паамим? И кто такой «С. Мотри Незамерзай»? Он – еврей? Мотри – подозрительное имя...
– Незамерзай – старинная, – затянул я, – еврейская фамилия. Род Незамерзаев уходит глубокими шорашим в халдейскую старину... Последний Незамерзай первым браком оскоромился, женившись на простой монгольской девушке из нееврейской семьи, но она прошла гиюр...
– Ортодоксальный?
– Господи Иисусе! О каком ортодоксальном гиюре может идти речь в Монголии? Правильный она прошла гиюр. Тропою грома прошла.
– Где теперь эта бурятка? Т. е. – гиюрка? То бишь – гийорет?
– Где теперь Рут Незамерзай-Чойбалсан?! В Бруклине.
– И?..
– Послушайте, оставьте меня, скоро Новый год. Христом-Богом прошу, работаи.
– Новый год уже – был! Заруби себе на носу! Кстати, ты – да?..
– Я таки – да!..
– Ну, проверим... Итак, распишись: «С. Мотри (Матетьягу) Незамерзай – аид». А что это за «Ме-тэль»?
– Ну, подумаешь. Она ей пела...
– Что пела?
– Хаву нагилу пела!!! А зайчик скакал! Все-таки надо меру знать!!!
– Ну-ну-ну... Ну-ну?! Без рук! Что это у тебя – на ней?.. Ой-вавой...
– Звезда. Вон отсюда! Один лучик отбился.
– А – здесь?!
– А здесь... крестовина. Но прошу обратить внимание: она в него воткнута! И – леитраот, адоны хорошие, зайт гезунд.
– Извините, Генделев, а тут у нас записано... «Под елочкой... с... простите, здесь неразборчиво – с... с... с...»
– «какал»? Какал!!! Какалов не знаете?! Вон из моего дома! Ад Меа Шеарим!
Этаж у меня высокий. Где-то в пролете, на уровне этажа 7-6-го, затухало эхо:
– Простите, а адон Зайчик – он еврей?..
Звонили из редакции, просили с хорошим концом. Но: елочка от меня ушла, уходящий олень...
С наступающим на меня со всех сторон Новым годом! Ад меа ве-эсрим в Новом году! Жду с игуаной!.. Дожить бы...
СРЕЗАННЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ
РАСТЕНИЙ
Осенью 1982 года я видел, как край бронетанкового полка (от силы в километре от горки, на которую я залез из любопытства), как край соседнего батальона, где-то полуротой, даже не попал, а подлез под удар собственной артиллерии. Тридцать шесть человек. В основном резервисты. Двенадцать убитых, и трое скончались в больницах Израиля позднее. Что и еще – кого – нашей медкоманде пришлось рассматривать в воронках среднего калибра через двадцать минут – дело понятное, и не о том речь.
Мгновенно оглохнув и получив хороший резиновый тык взрывной волной (почему-то наиболее ощутимо по лицу), я не лег мгновенно, как мои опытные однополчане, чьи инстинкты были приспособлены к войне (когда лупят по своим, как, впрочем, и по чужим). От обалдения я остался стоять во вдруг образовавшихся черных ветерках с загогулинами, подтанцовывая на землетрясении. Испугаться я попросту не успел за все четыре залпа, и ноги тряслись отдельно от высшей нервной деятельности. И не от зрелища. Редкой, скажу, красоты. Звук сняли настолько основательно, что я не слышал буханья крови в ушах – тишина была абсолютна, отчего цвета и выпуклость, изображения в стоячих глазах превышали норму видения, как открытое окно – очки из фанеры. Некто невидимый (и ощутимый), которому небо по пояс, топтался по особнякам предместья, как (наверное) я по вершинке, но домики, как грибы-дымовики, без хруста выдавали облака дыма и пыли под каблуками. (Потом, убегая к собиравшему нас по тревоге командиру группы прикрытия, я таки не удержался и кинул взгляд: изрыл и вскопал я ботинками щебень и грунт в своем масштабе – старательно. За пару минут.) Поразительно плотные клубы дыма всходили на ножках с непрозрачным, но плотным отрывом бесцветного пламени – а зеленые и желтые огни, и особенно – неправдоподобно густо-красные огни острых разрывов были такой интенсивности, как будто выключили свет, при полном-то свете едва-едва померкнувшего, словно переведенного на режим люминесцентности – солнца.
Потом густо пошла пыль, остро ударил в глаза, сразу заслезившиеся, песок, я отвернулся, принялся чихать, и сразу врубили звук, ровно на излете последнего залпа – грохот.
Факт присутствия красоты в бесчеловечном мире – гармонии – в мире, не рассчитанном на зрителя, – является для меня если не пятым доказательством бытия Господня, то по крайней мере, чуть колеблет мой, такой простительный, антропоцентризм.
(Кстати, недавно я прочитал у одного головоногого, что «восхищение» – тоже проявление «комплекса неполноценности»...)
Гармония в каком-то смысле объективна. Боюсь, что знание и технологии – это просто методы приближения к гармониям, не более того.
Красота и гармония (так же как уродства и хаос) ничего не теряют и не приобретают, тем более от свидетельств. Особливо –- ежели свидетелю застят глаза страх, песок, пыль, предрассудки. И правильное инстинктивное желание лечь и окопаться. (Так куются сверхчеловеки. Сам факт существования которых тоже природе по барабану.)
В принципе, это наше личное дело – увидеть ли красоту красивого, уродство уродливого, смертоносность смертельного. Понять (увидеть) – занятие персональное.

Но я – об антропоцентризме. Верней, о той его форме, которую я бы описал как свойство человека в оценках объективного – исходить из предрассудков, что все в мире устроено для человека, все во имя человека и для блага человека. В узком, конкретном случае – под человеком понимается он сам или группа его семьи, односельчане, соплеменники и вообще такие же милые, культурные и начитанные люди. Что хаос и гармония – это его, человека, личное дело, и, в зависимости от его произвола, они так не только называются, но и таковыми являются. А кто не согласен – иди гуляй.
В идеале такой способ суждения о мире сводится к узкопрофессиональному представлению пожарника о разнице между скрипкой и контрабасом: контрабас дольше горит.
В широком смысле слова такой способ суждения о мире приводит к объективизации собственных (цеховых, гильдийных, национальных) предрассудков и распространению их на мир вплоть до явлений природы. А также истории и натурфилософии.
Чтоб сэкономить слова и объемы, сразу же определюсь: антропоморфизм (т. е. «перенесение присущих человеку свойств и особенностей на внешние силы природы, наделение богов чертами человека») гибелен для современного человека, а особенно, как известно, для «еврейского человека».
Кому, как не нам, «жестоковыйным», понять изречение гоя Ксенофана (VI в. до н.э.), что «если бы быки могли создавать себе богов, то они изобразили бы их в виде быков...». И сделать выводы. А уж наш-то Бог явно сделан по нашему образу и подобию. Не правда ли? По образу и подобию еврейского человека?.. А? Громче! Ответа не слышу. Чуть громче, пожалуйста, а то уши заложило! У меня, забывшего лечь и наблюдающего, разинув еще не заслезившиеся глаза, в километре от пригорка, на котором стою, золотые грибы взрывов дивной гармонии и мощи. Едва не накрывшего нас с вами фейерверка. С головой накрывшего, с головой не услышавшего слова «атас». Пока еще глаза не слезятся и целы – от дробленой щебенки.
У нас – все свое, построенное, верней – увиденное и понятое по принципам антропо-, верней еврееморфизма. Над нами и именно на нас идет наш еврейский дождик, наш еврейский Бог организует нам наши катастрофы европейского еврейства, мы воюем с нашими еврейскими арабами и заключаем наш еврейский мир с нашими еврейскими арабскими соседями... Так мы живем в «объективном» мире... И в мире материальном, мире «материи – объективной реальности, данной нам Господом Богом в ощущении» (Е. Лец). И в мире – объективной истории!
«О, все – не так! О! оказывается: все – не так!» – закричите вы, отскочив от телевизора. Есть – есть (оказывается!) объективный, не еврейский мир! Живущий по законам себя. А не по нашим законам. Не по законам того, чего нам хочется. Например: нам хочется земляники, а чеченцам хочется, чтоб зеленое знамя ислама реяло над Грозным. Например: нам хочется жить в Израиле, а палестинцам наоборот. И т. д. И т. п. И над нами идет (оказывается?) всеобщий гойский дождик; и не наш Евбог, а европейская цивилизация, исходя из логики своего развития, организовала нам Катастрофу; и не мы, оказывается, люди (антропусы) в этом мире... И не еврейским соседям мы, оказывается, уступаем Голаны. Надо же, как интересно, не правда ли?
Или – мы быки и пасем своего бога с бычьей головой? В нашей истории такое тоже было. Впрочем, в нашей истории много чего было. Кроме, пожалуй, догадливости, что мир устроен после райских каникул не совсем так, как нам бы хотелось. И кроме ослепительной (объективной с точки зрения танцующего на пригорке ООН общественного американского мнения) перспективы с выпуклым донельзя изображением – артиллерия бьет по своим. Правда – это очень красиво. Говоря объективно.
Одним из базисных тезисов христианской философии (теологии) является аргумент Нового Завета, т. е. конца еврейской истории как истории богоизбранного народа. Богоизбранным народом после Иисусова откровения становятся отсель и присно христиане.
С точки зрения христианского мира мы – недоразумение, реликт, нонсенс. Точка зрения ислама на евреев в целом, и израильтян в частности – прикладно – нам известна детально (м. п. исламом она стройно и отчетливо теологически обоснована, кроме шуток).
Теперь нам известна точка зрения нашего правительства: в согласии с настоящим состоянием христианского миропорядка вписать Израиль в новый Ближний Восток. Исламский, между прочим. Объективно говоря. И в, объективно говоря, – красивый пейзаж. Особенно для тех, кто забыл лечь при автоартобстреле, утеряв на фиг – инстинкты.
Есть красота и гармония стихий – Бури, войны, истории. Объективно – есть. И конечно, лучше любоваться этой гармонией из окон фамильного замка, будучи бессмертным или перелистывая страницы – утеплив себя, окружив комфортом, «обезопасив». И лучше всего не чужими глазами, а своими и широко открытыми. Правда, что-то есть и в личном присутствии в эпицентре, но, во-первых, это переживание – на любителя, во-вторых, от обалдения, а в-третьих, при утрате инстинктов.
Гораздо хуже, когда нам пытаются навязать не наши представления о гармонии и мире. Не нашей гармонии, да и вообще не гармонии. И не нашем мире.
Но еще хуже, и даже опаснее, когда мы с этим соглашаемся. И речь идет не об антропоморфизме (чтоб все как у людей), а об смертельно опасном для нас политическом конформизме, в результате чего нас пасут чужие быки.
Нам нет места в идеальном христианском мире, нет места в мире практического ислама. Дело в том, что наша история не совпадает с историей человечества, и она, наша история, даже не выпадает из нее, уходя в песок, как история Древнего Египта, или не выпадает с балкона, как история инков. Наша история попадает под историю человечества. И мы сами – считая себя нормальными людьми – предаемся антропоморфии. Но мы, выпавшие в свое время из географии, так свешиваемся из географии Ближнего Востока, что вот-вот... Простым историческим пинком новой истории. Нового Ближнего Востока в прикладной идеалистике Ш. Переса. Нас губит антропоморфизм – нам кажется, что мы нормальные приватно люди – нормальны для человечества, вот мы и представляем себе все нормальное человечество нами. Что не мы – как они, а они – как мы.
Часто цитируемая до полной стертости мысль Жаботинского о том, что, чтобы стать нормальным государством, мы должны иметь собственных проституток и преступников, предполагает все же, что мы должны иметь проституток и преступников как у людей, а не танцы каирского живота и не чеченских абреков... И что наказывать мы их будем, не отрубая локти и не сажая на кол. Мы должны быть общечеловеческими людьми только в смысле нормального государства, а нормальным наше государство должно быть в смысле защиты нас от ненормального (а не идеального) мира. Потому что Израиль не может перестать быть жидом Ближнего Востока и мира. И вместе с появлением такого желания перестать он просто перестанет существовать физически. Рассуждая объективно.
Потому что гармония мира включает войну, со всеми ее подлинными и мнимыми красотами и подлинными ужасами. Потому что наш антропоморфизм, вернее – еврееморфизм заходит так далеко, что мы считаем еврейской даже погоду («потепление политического климата»).
Потому что у нас нет никаких общечеловеческих ценностей, кроме общенациональных.
И никаких общечеловеческих обоснований нашей государственности – если считать общечеловечеством человечество Ближнего Востока, нового Ближнего Востока, или Востока вообще.
Строго говоря, цветы – это половые органы растений. (Не нравится – не смотрите.)
Я предлагаю к Обелиску мира от имени нашего израильского народа со столицей в Иерусалиме положить срезанный пук половых органов растений.
...который «мир» – включает в себя и представление о войне...
...который «Иерусалим» абсолютно представляется человечеству в той или иной степени – Эль-Кудсом...
...которое «человечество» представляется себе таким, каким оно представляется себе. А не нам.
Окна (Тель-Авив). 1996. 25-31 января. С. 18.
ВИЛКОМ
Мансарда у меня маленькая. Оборудование – кот наплакал: негасимая лампада, стул, перо, магический треножник, санузел, лира. Музы крылами с балкону свешиваются, ими прохожие интересуются. Тем не менее: гость в дом, Б-г – в дом. (Между прочим, именно Б. Г. и отгостил, да так, что до сих пор опомниться не могу от его барабанщиков и басов.) Так вот: Б. Г. в дом – гость в дом. Б-г из дому только вместе с гостем. Ходят парами.
Гостей не люблю. Гости, дети и домашние животные не входят в список моих любимейших, если честно – существ. Я люблю аглай и старых, не остающихся на ночлег приятелей. Зверей я люблю – в зоопарке, детей на фотографиях, а гостей так и вовсе не люблю. Особенно – родственников из СНГ и породненных.
И не то чтоб я был тюхой безответным, совсем нет, ежели кто со мной близко знаком – тот знает, после близкого со мной знакомства – реабилитация проходит почти без осложнений, нюхают и слышат хорошо. Однако, однако почему-то у меня все время гостят гости, проводят свое счастливое детство дети и в углах живут домашние животные.
Мне как-то поручили проследить за котом: всего на вечер – писает он в специально принесенный мешок с гравием, а за это я могу его безнаказанно гладить. Ну что вам сказать? Об гладить не могло быть и речи, ел он как слон, причем – все, а единственно в чем я мог ему составить компанию, так это в мартовских вылазках по крышам, но он так решил, что я староват (а я страшно староват) и начал водить в дом. И на мою долю – тоже: не скучать же мне! Я совершенно не скучал. Мы с ним пели, потом он ушел, а я имел неприятнейшее объяснение с его хозяйкой, причем я уже был готов на крайние меры, но она сказала, что руку она мне все равно оторвет, а сердца у меня все равно нет, так что я ей Барсика не заменю и опять же... Хвост не трубой.
Барсика я потом встречал на Бен-Йегуде в самом широком обществе, мы с ним перемигивались. В принципе – он многое почерпнул от знакомства со мной – и вполне пригоден теперь гостить на любой помойке, а я способен работать котом даже при службе «горячий секс по телефону».
Останавливались у меня погостить попугай ара лет двухсот от роду, от старости уже не говорящий, но его описали как средство массовой информации, арестовали и продали с аукциона. Того, что он поведал своим следующим владельцам, хватит на самые клеветнические мемуары с картинками – ибо первое, что он сделал в новой семье, это гаркнул моим голосом: «Не могу молчать!»
Из более крупного зверья у меня разбивали бивуак: сеттер шотландский, сучка афганская, пекинез с характером вепря и несколько монстров местной породы сабр. Самое страшное: с ними приходится «гулять». Это такой эвфемизм – «гулять». Потому что на улицу их выводят – а верней, они выводят хозяев – с совершенно другой целью. Мы – с натяжкой назовем себя – люди, совершенно не называем это «гулять»... И в термин «служить» мы вкладываем совершенно противоположный смысл. Только команду «голос» мы выполняем, причем некоторые – письменно, судя по моей входящей корреспонденции.
Детей мне обычно подкидывают в тяжелый час, в критическую минуту, в нелегкую годину. Дети отличаются особой впечатлительностью и первые несколько минут рассматривают меня, а потом сразу – в рев. Делать им козу и танцевать – не помогает совершенно, я пробовал. Есть только три средства борьбы с ревом: физическое воздействие, нравственное воздействие и подкупить. Последнее, наиболее действенное. Подкупить ребенка просто: надо выдать ему на поругание истребованный им предмет: спички, антикварные часы, пистолет-автомат...

Попав ко мне в дом и пообвыкнувши, смирившись с моим выражением лица – детишки начинают доверять этому выражению и, предоставленные мной самим себе, ни в чем себе не отказывают: все, что низко лежит, – книги, бутылки, электротовары – они крушат об пол, все, что высоко, – канделябры, картины, телевизор – бьют в лет.
Предложение «гулять» они понимают совершенно не так, как наши маленькие (особенно сенбернары) четвероногие друзья, хотя не без этого... Еще их роднит с сенбернарами умение и любовь к потеряться на прогулке. Я неоднократно терял (верней – меня) множество детей, вверенных мне по разным причинам.
Если вы потеряли ребенка и уже приняли сердечное – хорошенько посмотрите по сторонам и определите: куда и ни при каких обстоятельствах вы бы не полезли. Сто из ста там вы найдете этого малипусенького.
Собака же – наоборот – найдется именно там, куда и вы бы с удовольствием заглянули: в ближайшем баре, поликлинике, туристском бюро, бане. Особенно хороши псы пастушеских пород – волкодав – в женских парикмахерских. Потерявшийся ребенок обязательно – в отличие от пекинеза – найдется. Даже если его кто-нибудь попробует присвоить – ознакомившись с ним поближе – вернут! Часто дети берут заложников, нанося им нетяжкие увечья и оскорбления действием.
Гораздо труднее потерять ребенка в коляске (см. кадры на лестнице в «Броненосце Потемкине»), но, если коляску не пометить какой-нибудь особо запоминающейся метой-эмблемой, ребеночка можно случайно обменять, что еще хуже, потому что можно не заметить подмены. Поэтому на коляску лучше всего водрузить флаг с гербами дома, откуда инфант. И все же, если вам сунули не того младенца, не тужите – новый владелец тоже может не заметить подмены и все образуется.
Говорю это, ссылаясь на собственный опыт, потому что если сравнить, например, меня и семью очень приличных людей – моих родителей – меня несколько раз подменивали.
Но самое тяжкое – не доверенные напрокат дети, не всученные боа-констрикторы с мешком с гравием буквально на пару часов, покуда счастливый владелец не отдохнет на Родосе – самое тяжкое – гости. Причем постоялые. Гости бывают: «бедные родственники» из СНГ, которые «наконец-то собрались на старости лет навестить землю предков, о которой они так много слышали»; «богатые родственники» из Германии, США и Канады; «друзья детства»; «коллеги и приблуды, которым просто некуда податься, войдите в их положение». Все эти пять многочисленных групп опасны для человека, но каждая туристская группа по-своему.
Первая – «бедные родственники», «которые наконец-то и т.д. и т.п.». Прежде всего – они очень бедные. Их отличает незнание языка (никакого) и неодобрительное выражение лица при взгляде на великолепие вашего быта, трудную погоду и памятники старины. Основная жуть состоит в том, что они якобы абсолютно беспомощны в деле организации себе экскурсии по святым местам Назарета и прочим святыням, в покупке себе этих йогуртов и вообще «что бы мы без вас делали».
Как правило, та простая мысль, что вы хоть где-нибудь, да работаете и бываете заняты этой работой – для бедных родственников неподъемна и раздражает. Работают, с их точки зрения, только в России. (Что, между прочим, – фигня.) Пребывание «бедных родственников» (чьи нетрудовые доходы, как правило, превышают ваши трудовые – принципиально) обычно влетает в копеечку даже не на их содержание, а на содержание себя в нерабочем состоянии. Шуток «бедные родственники» не понимают. В народе они метко прозваны «родня». Наиболее употребительное словосочетание: «родня поднавалила(сь)». Уезжают с подарками «в Совок». Зовут в гости, словно вы на них не нагляделись. Но как только вы говорите «уф», подъезжает новая группа – «богатые родственники»; богатые родственники стоят вам гораздо дороже, чем бедные, потому что они уже вписались в Запад и знают что по чем. Они гораздо умнее бедных родственников и живут у вас в доме не потому, что родня, а потому, что «цены на отели – неподъемные, а обслуживание оставляет желать лучшего». Поскольку оно оставляет желать – вы обслуживаете их «по-домашнему». Опять же вас вынуждают не ударить лицом в грязь обстоятельства, и если гости из СНГ удовлетворяются «шипудией», то гости из США удовлетворяются дешевизной израильских ресторанов за ваш счет. Умиляются они бесплатно. Памятниками архитектуры интересуются истово, как будто завтра Страшный Суд и они не успеют щелкнуться на их фоне. В подарок привозят что-нибудь подержанное и почти не ношенное из благотворительности «Джуиш комьюнити», Израиль называют «Израиловкой», вас – жалеют. В отличие от бедных родственников – на работу ходить разрешают, осуждая ваши зарплаты... Спать ложатся рано. Дарят фотографии, как они повеселились у вас на Мертвом море. К себе в гости не зовут. Так что отомстить им практически невозможно. Едят «легкую пищу», но подороже и в огромных количествах. Часто привозят с собой детей. Дети – невыносимы.
Третья стая – это «друзья детства». Ужас состоит в том, что они делятся с вами воспоминаниями, которые вы с удовольствием забыли, да и воспоминаний хватает максимум минут на 10, после чего их надо терпеть, пока они отвязываются на весь отпуск, с недоумением размышляя, что они, собственно, делают в вашем ландшафте. Друзья детства очень много пьют и всячески вас компрометируют перед друзьями зрелости и женами. Вообще – это бич божий, особенно когда затягивают туристские и хулиганские песни вашей молодости.
Еще гаже обстоит дело с подругами детства, они практически неузнаваемы. Но и то спасибо, что она редко кооператор.
Четвертая банда – наезжающие коллеги. Смотрят на тебя тихо и печально. Недурно вместо тебя зарабатывают на твоей территории. Все время острят. Благожелательны и покровительственны. Пьют водку даже лучше, чем друзья детства, обязательно просят познакомить их с местными девушками. Дарят книги сочинений с автографами и допрашивают через пару часов об их кратком содержании, причем не любят правду в лицо ни в коем случае. Потому что, если скажешь правду, не только не помогает, но наоборот – гости-коллеги просто надуваются, но не съезжают. Забывают в доме ненужные им вещи. Которые вы им обязательно обещаете привезти...
Пятое состояние вселившегося – гость-приблуда. Его обычно вам подсовывают ваши приятели, причем обычно мотивируя наличием у них представителей первых четырех групп и «этому даже постелить негде»... Самые невыселяемые гости, хотя среди них встречаются прелюботнейшие экземпляры чудовищ. Зачастую приблуды чувствительны и застенчивы – но вам от этого не легче. Едят мало, плотно. Приходят в дом поздно, уже надравшись и насытившись на стороне. Чаще всего приглашают поселиться у них в Ростове, когда вас туда закинет судьба. Как правило, они – паломники, причем – причудливых конфессий. В отличие от этого раза, обещают приехать в следующий раз – специально. Очень часто через пару лет их высылают из страны. Покидают Святую землю в слезах.
Кажется, наметилась еще одна гостевая тенденция: гости дорогие. Дорогими гостями принято называть теперь Я. Арафата, короля Иордании и т.п. важных персон. На всякий случай укрепляю мансарду.
ЗОЛОТО ПАРТИИ
Я очень популярен. Нас трое таких самых популярных русских, ягодок средств массовой информации. Это (по степени узнаваемости Я в бане, маколете и в полиции) г-н Калманович, мар Щарански и я. Мы даже похожи, с точки зрения аборигенов. А Калманович даже и меня узнаваемей, особенно когда он в Москве. А я – тут. И наоборот.
Недавно встречает меня на улице совершенно незнакомый мне субъект. В истинном смысле слова встречает, т. е. подстерегает по выходу из моего мемориального парадняка.
–Шалом, – говорит. – Я слышал, вы тут русскую партию создаете, я нам жрать нечего.
На приблизительно русском языке говорит, и. похоже, я его понимаю, а он меня – нет.
Беседуем. О том о сем. О трудностях духовной абсорбции, о необкультуренности коренной культуры Мединат Исразль, о том, что скоро ударят морозы, а беспечные муниципальные власти не чешутся. И бездомные русские академаим последнего призыва будут замерзать прямо на лету. Как орлы.
Безобразие, говорю. Обещаю привлечь внимание к чаяньям, говорю, выведу, говорю, 100 тысяч никаенщиков на демонстрацию против министерства туризма. С транспарантами. Все равно им делать нетрудоустроенным нечего. Чем по улицам шляться, пусть организованно скандируют. Что-нибудь веское.
– Спасибо, Юрик, – говорит он мне на прощанье, – спасибо, что не зазнался, не обронзовел, не забурел, как ватик, не оглох к стону земляков, к боли народной, к слезам сирот и их вдов.
– Эйн б'дма, не за что, – говорю, – заходите еще, только я не Юрик. я Генделев, Миша из рубрики…
– Ах ты вражина, – говорит он, – то-то мне твоя физия знакома! Враг народа. Ничего. Пососали нашей крови. Как мы русскую партию сбацаем, всех вас к ногтю. Вплоть до депортации в глубинку.
Вот как я популярен. Соседи, настрадавшиеся от разнообразного образа моей жизни с некоторыми моими женами и членами их семей, – сефардо-румынского происхождения соседи – стали со мной подчеркнуто ласковы, не сказать сервильны, ломают шапку, насильственно кормят гадкими восточными сластями. Почтительны. Хвалю.
– Раньше к тебе в притон, доктор Генделев, все больше красавицы взбирались, мусоря на лестнице, а теперь телевизионщики шастают. Ты б их, барин, окоротил, а то скачут, топчут посевы, гогочут, а, ваше сиятельство лидер?
Я обещаю собрать политбюро и реввоенсовет русской партии и обсудить возможность расстрелять хулиганствующих телевизионщиков.
Действительно, зачастили.
Расходы на электроэнергию чудовищны. Кофе хлещут галлонами. К девушкам моим сенным пристают. Под предлогом дать интервью, когда же мы наконец возьмем власть в свои мозолистые русские руки, поскольку у их собственной власти все руки левые. Меня же из осторожности и раболепства спрашивают о нейтральненьком: что я ем на свои гонорары, имеется ли в названиие «Общества чистых тарелок» политический подтекст и сколько я могу выставить бойцов, если что?
После торжественной встречи Нового года, тайком от меня журналисты ведущих газет пытались провести широкий статистический опрос соседского населения на предмет – это были стрельбы или что? И – зачем ко мне приезжал Грачев инкогнито?
Мою кличку «Лев Давидович» решиташидуровцы произносят почти без акцента. Некто (я-то знаю – кто!!!) с намеком, исходя из собственных представлений об остроумии, прислал на Сильвестр с нарочным ледоруб.
На что он намекает?! Хотя дареному ледорубу в зубы не смотрят, в зубы смотрят дарителю.
Призрак русской партии бродит по
Кфар-Сабе.
Его видели в Холоне.
В Шхунат ха-Тикве и в Катамонах он распугал пожилых Черных Пантер. Распугал он их так: кама зман атем б'арец, пенсионерим?
ШАС предлагала коалицию, с целью чего ко мне приходили бесплатно прибивать мезузу. Я был уклончиво непреклонен.
Гонцы прибывают ежечасно: нарочные от Бовина, фельдъегеря от Ельцина Бориса Николаевича, связники от Щаранского. Приходили из Хопра. Вот я и в Хопре.
Многие пророчат меня на царство.
Я согласен.
Но при условии предоставления мне царской яхты и освобождения от арноны всего дома Давидова с палисадником. Вероятно, предстоит пакетная сделка.
Он пришел ко мне спозаранку, вломился в спальню, всех там распугал. Был он значителен, особенно когда отдышался от подъема по 147 ступеням.
Мои хоромы осмотрел с неодобрением: разве так живут вожди? Мала жилплощадь вождей.
– Это у меня конспиративная усыпальница, – не роняя достоинства политического деятеля, нашелся я. И величественно прикрыл ноги, свешивающиеся с моей конспиративной постели. – Официальная резиденция у меня в Моце. Элит. С видом от моря до моря.
– А, – сказал он, – я так и знал. – И взял быка за рога: – Сколько нужно на предвыборную кампанию? Пахот о йотер? У меня с собой.
Я испугался, что сейчас войдут слуги и внесут сундуки с пломбированным германским золотом на подкуп электората и я буду окончательно скомпроментрован в прекрасных глазах моего электората.
Электорат в предчувствии того, что вот-вот можно будет пополдничать на халяву, опять спустил ноги с кровати. Изумительной, между прочим, формы – лядвии.
– Сколько надо бабок, чтоб все схвачено, – опять повторил вопрос спонсор, жертвователь и, по всей видимости, интересант. – Бабки не пахнут. Сам отмывал.
– На все про все?
– Обижаешь, фюрер. Сколько надо – столько и нарисуем. Но чтоб не менее семи мандатов от «Общества чистых тарелок»…
Глаза электората засветились алым. В перспективе замаячили приобретение вожделенных лосин на сэкономленные в результате нечестных финансовых махинаций с нарушениями отчетности по ходу предвыборой кампании – средства.
– Шесть! – сказал я с твердостью прирожденного вожака и трибуна. – Шесть. Ну, шесть с четвертью.
– Что шесть? Триллионов?
– Шесть мандатов от «Общества чистых тарелок». И один чтоб от «Мемуаров бывшего бабника». Общественное женское движение чтоб! Одна мандата. Но с широкими возможностями на тиви. Безграничными. Зане поднимем молодежную массу, она застоялась. Выкинем куда-нибудь зажигательный лозунг на фиг. Вознесем хоругви. Я лично знаю пару-другую хоругвей, еще хоть куда.
– А маргиналы? – забеспокоился спонсор. – Беда с этими маргиналами.
– Маргиналы меня чтут. По-своему, конечно, по-маргинальи. Но – отдадут. Они, коль хорошенько их потрясти, все отдадут, голоса отдадут, животы положат. Вы еще не знаете наших маргиналов, золотые руки.
– Хорошо, даже восхитительно. Но ваше кредо? Какие политические, экономические и социальные программы вы напишете золотыми буквами на знамени борьбы?
Я снял со стен давно заготовленные знамена, надел очки от старческой политической дальнозоркости и прочитал вслух золотые буквы:
• «Взять банки. И по мостам – на вокзалы». Это раз.
Ошеломленный спонсор с восхищением почесал татуировку.
• «Выселить лиц кавказской рациональности за зеленую черту оседлости. Они там кого надо оседлают в дугу». Это два.
• «Пригласить солнцевскую группировку и большие гастроли Кобзона».
• «Предоставить всем русским работу в Израиле. Всем 120 миллионам и башкирам. Это превратит наш маленький Израиль в великую державу мирового значения. Мы войдем в Большую семерку, тройку и даму пик. На мизере».
• «Увеличить русскую парламентскую фракцию в кнессете за счет кворума Совета Федерации и Госдумы. Таким образом за нами обеспечится пожизненно парламентское большинство».
• «Сложить новый гимн. Ответственный – поэт Тарасов. Всем петь гимн. Это завораживает».
– Достаточно, – сказал спонсор. – Можете не продолжать. Партии – быть!
– И движению. Дамскому: «Женщины России в Израиле». Ему тоже быть. Еш такая партия!
Мы скрепили наш договор двумя-тремя рукопожатиями. Электоральная группа просила и ее взять в рукопожатие, но было некогда.
Тут и внесли пломбированные вагоны с хорошо отмытыми деньгами.
Золото партии – думал я. стараясь не жестикулировать непроизвольно. Заведу себе культ личности. Куплю себе тапки. Выплачу себе часть алиментов. Выучу себе иврит, наконец! Люблю мертвые языки...
Время себе пролетело незаметно.
Над русским Израилем вставала наконец-то русская заря. Наша заря, без ихних выкрутасов. На балкон сели голубки, наши голубки. Я накрошил им хлеба, чернушки. Они ели, и ничего, не дохли. Я сел к русскому столу и придвинул к себе стопку чистых, еще невинных знамен. И начал расшивать их золотыми нашими буквами Мне пелось, увлекалось творческой работой и нет-нет да и мурлыкалось. Я огладил бороду – лопатой. Надо бы перелицевать толстовку, подумалось мне. Нет! Надо заказать новую. Из саржи. Или целых три, добро, с хитринкой, усмехнулся я. Одну себе, вторую Щаранскому. А третью – тоже мне. Калмановичу заказывать наряды я не буду, пусть так и ходит в обносках, пусть вредит своей популярности. В рамках предвыборной кампании. В радужной перспективе.
Русское солнце встало. С ленцой потянулось. Буду как солнце, решительно решил я. Вот оно, как лучиком коснулось отличной меркадеровской стали дарственного ледоруба.
Под окнами музыканты и хоры грянули новый гимн «Общества чистых тарелок», сложенный поэтом Тарасовым, лауреатом премии имени меня.
– Мишка! Лев Давидович! – закричали снизу. – К тебе можно?
– Можно, можно. Мы сегодня без чинов, по-простецки. Заходите, гостем будете, дорогие мои избиратели!
Что делать, если я так популярен?..
ЛИЛИИ, ЛЮБИМАЯ И ХЛЮСТ, ИЛИ
МНИМЫЕ ТОЖДЕСТВА ТВОЕЙ СТРАНЫ
Несколько лет тому назад я имел несчастие вдребезги влюбиться. Почему – «несчастие» – это скорее из контекста моей литературы, а отнюдь не жизни. Что совершенно не одно и то же – и литература и жизнь составляют, по моему мнению, столь же «с-первого-взглядные», не подлинные (мнимые) тождества, наподобие сравнения глаз любимой со звездами; и в самой ткани бытия и небытия встречи этих мнимых подобий – подобны... Ну, скажем, – прохладной встрече могильных червей с аскаридами. Ко всеобщему изумлению.
Влюбился я – уже к этому времени немолодой израильтянин – как всегда, очень удачно: во-первых, в Москве; во-вторых, в красавицу; в-третьих – в юную, верней, младую особь. Все как обычно.
Роман наш был бурен, глубок, и, конечно же, мы полюбили друг друга. Навсегда. Возлюбленная моя на еврейку была не похожа, поскольку не была ею ни на грамм, что я воспринимал и воспринимаю как ее личное дело. Девушка она была строгая, серьезная (сегодня она адвокат), с громадными (см. выше) очами, отличными манерами и выше меня приблизительно на голову.
Что она нашла во мне – ума не приложу.
Да это к делу и не относится.
В ней было, несмотря ни на что (т. е. довольно паскудную, с моей точки зрения, экологию и психологию РФ), развито чувство собственного достоинства, чувство такта и чувство уважения к Государству Израиль (последнее – к моему глубокому изумлению). Короче, дама сердца у меня была – идеал и «гений чистой красоты». Как обычно.
Вернувшись на родину (т.е. в Израиль), я тосковал по своей возлюбленной, как подорванный. Как подорванный сапер по своей ступне. Или как Меджнун (от имени Меджнун произошло отличное идишское слово «мишугинэ», т. е. безумец и псих) по Лейле. Другими словами – поэт настолько «любил ее сильнее гонорара», что, подкопив со своих гонораров медных денег и подгадав ровно к постсессионным каникулам на ее юрфаке, влюбленный я выслал любимой ей так называемое гостевое приглашение и билет на аэроплан. С целью, простите, сугубо личной! Моего, простите, личного дела – дела любви. Когда дело любви становится – «делом». (Для справки – оно по-английски называется «прайвеси», что очень приблизительно переводится на русский язык как «личная жизнь».)
Моя возлюбленная (дама щепетильная) согласилась принять от меня этот знак внимания, причем основными аргументами этого ее согласия явилось даже не то, что ей умиралось как хотелось посмотреть на Иерусалим (а позволить себе такое путешествие на повышенную стипендию умницы и отличницы и гроши псевдозарплаты на полставки в качестве помощницы нотариуса она не могла и т. д.), и не то, что мы жить не могли, не дыша друг с другом в лад, а то, что вся компания «Безек», по всей видимости, безбедно существовала за мой счет. Если о те года кто-нибудь не мог дозвониться до Москвы – каюсь, виной был ваш слуга, щебетавший по телефону сутками.
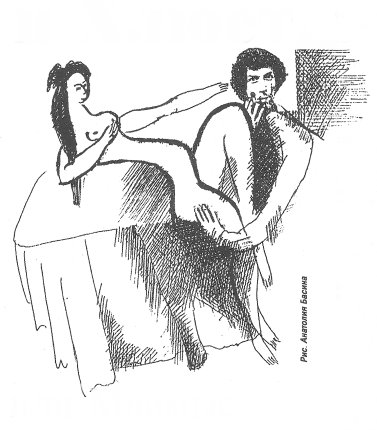
Моя любовь прилетала в мою мансарду: я был вне себя, я пел, я вымыл посуду, я считал минуты. Я украсил дом цветами; я уволил отличную аглаю; я засунул все сувениры и локоны в два тюка и отнес на хранение бывшей жене; я ушел в глухой, как несознанка, отпуск; я занял бешеные деньги и набил холодильник едой; я побрился, вымыл уши, полил себя, как баобаб (я предпочитаю «Kouros» – «Yves Saint Laurent»); я вытер пыль с ее фотографии в ладанке; я отрепетировал двустороннюю улыбку на полупарализованном своем лице, чтоб не очень сразу пугать ее, отвыкшую; я написал гимн и строго-настрого приказал всем своим друзьям на пушечный чтоб выстрел – и поехал в Лод. Охапка белых лилий была толще меня, иссохшего в разлуке, а цвет их по всем статьям отвечал моим помыслам. (И нечего ржать. Вот что я вам скажу. – М. Г.)
Как известно, я очень популярен. Меня действительно легко не перепутаешь, особенно лоб в лоб, даже на бреющем. Стою я на «прилете», от счастья не обращая внимания. Почти ни на что. Ни на выход из кстати приземлившегося авиона из вьюжной Московии Ильи Глазунова в соболиной шапке набекрень и в «шубе с мертвого раввина», как писал Э. Багрицкий («Здравствуй-те Михало Самолыч! – «Шалом! Элиягу, барух а'ба!»), ни на старого знакомца Евдокима по кличке «Киллер» из «охраны» Мавроди («какие люди!»), ни на шефа отдела по евреям известного ведомства в годы моего отъезда («Ой, кто это?» – «Сколько зим, столько зим!»). Стою. Вышла делегация общества «Память» в национальных галифе и с оружием наперевес. Стою. Проскакали на рысях петлюровцы. Стою. Весело насвистывая, вышел с одним кейс-атташе ВИП (Вери импортент персон), даже назвать фамилию которого я боюсь («Здоров, Мишка!» – «Угу, Утюг».) Вышел Калманович – его встречали с телевидения. Стою. Прошла Софка-клитор со своей свеженабранной командой от «13 и выше». Стою. Все. Сел самолет из Каира. Стою. Мимо меня прошел плохо загримированный аятолла Хусмейни из ХАМАСа. Стою. Лилии вянут. Стою. Не надо входить в мое положение. Оч-ч-чень не рекомендую. Стою.
«Так, – думаю, – она выпала из самолета». Она – такая неосторожная... Нет! – думаю. – Все – еще хуже: при подъезде к Шереметьево ее похитили и подменили. И вместо нее под псевдонимом «Л. Г.» («любимая Генделева») выехал «Утюг»... Нет, еще хуже! Она, непутевая, наверно, взяла для меня обычную недельную передачку «для Миши» с гранатами из Грановитой палаты и внесла ее в шереметьевскую декларацию... Нет! Она просто меня не любит... Она просто – как все... Зачем ей – я? Она полюбила другого. Сейчас вот еще подожду часа полтора и пойду к морю. Мертвому. И – как Муму».
Стою. Прошло полтора часа. Лилии увяли. Прилетел самолет из Биробиджана. Покружил, улетел. Я стою. Прилетел самолет из Гарлема. Вдруг!..
...Вдруг толпа, валившая из Гарлема, расступилась, вся побледнела. И по коридору вышла она! Вокруг нее электрическое сияние, вокруг головы аж три нимба, она! Она – вся красная. В смысле – пунцовая. Без багажа. Я – к ней. Сую ей пук прутьев от лилий. По-моему – плачу. Навсхлип. От счастья узнавания.
Смотрит на меня моя любимая и тихонько, с присссвиссстом так, мне и говорит: «Миша!» (У меня сердце упало. «Мишей» она меня никогда не называла. Даже в самые интимные минуты наших недомолвок.) «Миша, – говорит она. – Я на минуту. Я улетаю домой. В свое Беляево. Меня не пускают в Твою (– знак шипящего восклицания) страну. Да я и сама уже не хочу в Твою (знак рыдающего восклицания) страну (знак многоточия). Не хочу я в твою страну, где я...
– ...Кто, кто, любимая?!
– ...где я...
– Кто?..
– ...я...
– Кто..?
– ...блядь я, вот кто! Генделев...
– Кто посмел? – сказал я спокойно.
Схватил ее за руку и пошел внутрь в абсолютно «Вход посторонним воспрещен». Вход разверзся.
– Генделев, у тебя сердце! – сказала уносимая за мной вброд любимая.
– Куда?! – заорали битахонщики на языке моей исторической родины.
Я ответил им на языке своей просто родины, а посмотрел на них взглядом из неолита. Как ни странно, они отсели, а я пошел прямо на небольшого, но узнаваемого с первого взгляда господинчика средней твердой руки, я таких хорошо знаю... С плацкартой в петлице и с полуспущенными штанами. Увидев мое лицо с обеих сторон... Он закрыл свое локтями. Я подволок свою гостью. Он немного успокоился, но зря.
– Генделев, у тебя давление, – сказала она.
– ..? – сказал я.
– Ты ей кто? – спросил пакид, отирая капли.
– Слушай, хлюст (хлюст – это по-русски. Но созвучно)! – выговорил я. – В чем дело, а? У нее что – паспорт краденый?! Что значит «ты ей кто?»?
– Или ты (ну-ка дай твой теудат зеут, кстати, мами, проверь его...) скажешь мне, кто ты ей и зачем она здесь...
– Или?
– ...или она поедет сейчас в Москву... работать...
(Я начал сгребать начальничка... «Мишенька! давление!...» – зашлась моя возлюбленная. Я сел на пол.)
– И еще скажи спасибо, что я вообще такой добрый – сразу ее не развернул. А за тобой отпустил... (В руке он помахивал документами и билетом моей единственной.)
– Милый, я лучше поеду домой? А?
Роясь в поисках документов, подтверждающих, что я торговец живым товаром и содержатель всея Яркони, я исключительно пребывал в посткоматозной отключке, как-то утешая свою возлюбленную, я автоматом ответил на множество вопросов самого милого свойства и качества:
«Сколько лет мы знакомы? Она еврейка? Она нееврейка? Она не еврейка? Кто она по профессии? Кто она мне? Как давно? Сколько раз? Где она живет в Москве? Где мы будем жить в Иерусалиме? Она комсомолка? На что она живет? Кто я ей? Я – еврей? Сколько лет я в стране? Женат ли я?»
На вопросе «где ты работаешь по-настоящему и на что ты живешь? И на что ты будешь ее кормить?» – я наконец нашел в глубине реглана свое удостоверение личности, а к нему в комплекте... журналистскую (Какое везение! Какая пруха!) карточку и пару своих визиток (разного содержания).
Защечные мешочки опали – мой следователь углубился в мои документы.
– ...Ну, в страну я ее впущу... – возвращая мне мои документы, сказал он средним голосом.
– Ага, – понял я.
– ...но паспорт ее пусть побудет у нас...
– Ага, – сказал я звонко. – Это еще почему?! На основании чего?..
– ...Ну... у нас инструкция такая... Чтоб быть уверенным, что она не будет ра...
– Ну?!!
– ...ну, чтоб покинула страну... в срок. Вернем на вылете.
– Ага... – согласился я. – «На вылете»... Мецуян. Где тут у вас старшой?
– А зачем старшой? – встрепенулся хлюст. – Я – старший... по смене...
– Интересуюсь я. Инструкцию посмотреть...
– Ну, вы можете идти, – сказал «старшой по смене», протягивая мне и ее документы. С паспортом во главе.
– Пошли, Генделев, – понимая мой цвет лица, сказала моя любимая. – Пошли, Генделев. В твою... страну.
Я взял ее задрипанный московский фибровый чемоданчик, обнял ее, она взяла прутья от лилий, и, низко опустив голову, мы двинулись в мою страну.
– Хорошо, что у меня был с собой студбилет, – держа меня за руку в такси, успокаивала она меня. – И зачетка. И удостоверение из нотариалки.
Я сопел.
– Он спрашивал меня, сколько ты зарабатываешь.
Я сопел.
– И с кем я была знакома до тебя.
Я съел пломбу. Из искусственных зубов.
Ну, слезу сострадания, допустим, я из вас вышиб... И опасаюсь, поелику вышиб слезу, что вы – в отместку – вышибете слезу мне, вывалив на меня горы историй такого типа, рода и качества. И это будет не мнимое тождество, а подлинное равенство. О поведении специальных таких хлюстов на въезде и выезде. О странной системе допросов этих соплячек из битахона в Бенгурионе, хамящих, тыкающих взрослым людям, говорящих на псевдорусском волапюке, всесильных... Задающих подлые вопросы административного полета воображения их начальства... О чудовищной системе въезда в страну туристов из России, как «русских», так и не-русских... Я – что? – ничего не слыхал о расспросах в стилистике «откуда у тебя ребенок?» (жене моего друга-журналиста) или «кто тебя возил в Эйлат?» (балерине-приме Большого театра)?!
В общем-то, все это к вопросу о «прайвеси»? К представлению о прайвеси в этой... «твоей», как говорила моя возлюбленная из Москвы, «стране»... Специальном таком прайвеси для «русских» и породненных. О жизни, а не об литературе, в их подлинном, а не мнимом единстве. И о защите чести и о гражданстве в их... в их – «с первого взгляда» нетождественности. Или это у нас теперь так принято? К всеобщему (см. неаппетитное сравнение в начале статьи) изумленью.
А может, всем нам обрести наконец-то журналистские карточки? И тогда нашим гостям будут отдавать паспорта? На въезде?
ВЗЛОМ
С утра мне кусок в горло не лезет, с утра мне не то что палец в рот не клади (клади, пожалуйста, хотя я лично не советую), но не тот я с утра, чтоб росой омыться, буян-травой утереться и за царевнами скакать как козел. Годы мои не те. Национальная принадлежность не та, климат неблагоприятный, улица, город и век.
С утра я люблю, чтоб до полудня кроме кофе, газетки, сигарет и вида на птичье небо из мансарды, чтоб кроме этих адаптационных – к белому свету и невыносимой легкости бытия – процедур, в доме было тихо. Люблю чтоб. Это единственное, что я вообще – с утра. Все остальное хорошо изучили близко, в той или иной степени, познакомившиеся с моей конституцией люди, коллеги, вдовы, Аглаи и друзья, поэтому жизнь по большому счету мне не удалась.
И номер телефона – редакционная тайна.
Мои близкие, ученики и любимые знают, что делают, когда остерегаются сообщать мне в это время суток и о пожаре, вплоть до атомной бомбежки, и желании покончить с собой и мной, и что зубки режутся, и что они видят во сне. Все, что Господь Израиля намеревается мне сообщить до обеда – Он пусть сообщает лично.
В принципе – эта пара часов одиночества и относительного покоя – и есть моя личная, не публичная жизнь, право на размышление, жизнь – отбитая у семьи, собственности и государства. С кровью и некоторой свирепостью отбитая жизнь. Моя, у себя дома, с собой.
Грубо говоря, право на не сугубосмежную кабинку.
– Алло, Михаэль? Ма шломха?
– Ну...
– Михаэль, я хочу задать тебе вопрос, если ты не возражаешь, то...
– Не понял.
– Вопрос первый: как часто ты делаешь «это» с женой...
– Пардон?!! Ты кто?!!
– Подожди, Михаэль. Как часто...
– У меня нет жены... В настоящее время суток...
– Нет жены? Так и отметим. А «это» с подругой?..
– Что вам от меня надо?!!
– ... значит – ты, Михаэль, другой сексуальной ориентации, момент, сейчас я переведу тебя к Жуже. Жди.
(Звучит музыка. Как правило, «К Элизе», но возможны более прогрессивные мелодии, типа – «Турецкий марш» или осточертевший «Пинк Флойд». Жду. Меня «переводят» к унисексу Жуже).
– Нам очень приятно. Ма шломха?
– Так себе...
– С чего начались твои особые пристрастия? Когда ты заметил, что ты – другой?
– Ну...
– Мики, можно я буду называть тебя так, между нами, называть? адон Генделев? Мики, когда ты понял, что любишь товарищей по детсаду, ките алеф, взводу? Не бойся, Мики, это анонимно, можешь говорить все...
– ?!!
– Был ли ты жертвой сексуальной агрессии своей учительницы, когда тебе было 11 лет?
– (...)!
– Чем ты предохраняешься?.. Как ты поступаешь, если у тебя нет кондома? Просишь у друга-партнера? – 10 некудот. Уклоняешься от акта? – 15 некудот. Ограничиваешься...
– Кто вы такие?
– ... 25 некудот. Я правильно тебя понял, Мики?
– Вы меня правильно. Я вас спрашиваю, кто вы такие? И я тебе не Куки!.. Не Маки!
– Ну, Мики, мы активисты общественной организации «Кондом по телефону ЛТД». Мы проводим телефонный опрос общественного мнения в рамках акции «Все имеют всех и поют». Я правильно тебя понял, что ты живешь по адресу Бен-Гиллель...
– А вас с утра не посылают в?..
– Я сейчас тебя переведу к… (Звучит «К Элизе»).
...Я смотрю на телефон. С повышенной собранностью, одним усилием воли пытаюсь аккуратно отнестись к трубке. (Это уже не первый аппарат. Впрочем, когда я в очередной раз приношу в «Безек» кулек с осколками, там относятся ко мне с теплым пониманьем). Звучит звонок.
– Ну.
– ... 25 некудот (незабываемый альтик-голос Жужи)...
Пью воду, что по утрам мне не свойственно. Пытаюсь вместо газеты прочитать, что написано на одеяле. Экстрасистола. Еще одна экстрасистола. Звонок. Я, превентивно:
– ... нет, я не был жертвой похотливой агрессии своей с седыми прядками над школьными тетрадками, когда мне было 11 лет от роду!!!
– ... Не поняла, повторите, адон Генделев! Я спросила, вы как – не возражаете лежать на смешанном, не выработали собственного мнения (да-нет), возражаете, но не очень (нет-да) или вам все равно – тогда – ноль.
– Тогда ноль. А что, собственно, «тогда ноль»?
– Если вы не возражаете против того, чтобы вас захоронили на общем кладбище, наше общественное движение, проводящее опрос общественного мнения... Простите, ваш номер «теудат зеута» 173...
– Нет! Там на кончике 9!..
– ... в рамках кампании «Неживые за гражданские права»...
– Алло?!
– Ну так что, вы хотите, чтоб ваши дети поголовно болели СПИДом? (Вкрадчивый голос с нахрапом).
– Нет, не хочу.
– Тогда ответьте на несколько важных вопросов в рамках кампании «Тоже люди». Как вы относитесь к СПИДу? Да – 10 некудот, нет – 15 некудот, не знаю – 20 некудот...
– Нет.
– Что «нет»?
– Нет. И еще раз нет. Кама паамим нет.
– То есть вы за?
– Да. Я «за». СПИД я перенес на ногах...
Отбой. Т. е. я произвожу отбой трубкой края кофейной чашечки с успокоительным коньяком, но не попадаю. Руки дрожат в такт зубам. Надо взять. Себя. То ли в руки зубы, то ли зубы в руки.
– Алло!
– Доброе утро?
– Еще как!
– Меня зовут...
– Оччень приятно.
– Больничная касса «Иов» проводит опрос общественного, адон Генделев, мнения...
– Я не хочу. Я – не член вашей кассы!
– А почему вы не член нашей кассы? Мы производим для новых олим буквально все. Плюс бесплатное протезирование олим. Как – вы хорошо относитесь к протезированию? Да – 10 некудот.
– Я вас не люблю.
– Это очень любезно с вашей стороны ответить на наш одиннадцатый вопрос второго раздела «бет». Но, прежде всего, какой у вас законный заработок?
– У меня нет законного заработка. У меня, как известно, все заработки незаконные... То-се, взятки, гонорары за старушек. Пиратствую, пишу в газету.
– Менее десяти тысяч шахов брутто? – 10 некудот. А если более 100 брутто – 15 некудот. Плюс маам – 20 некудот.
Между первым глотком кофе и последним хлебком валокордина, мне позвонили:
«Малолетние матери против дискриминации материнства» под лозунгом «Это еще ягодки» в рамках «Плод далеко не катится»;
из торговой фирмы «Бюст и Гальтер», по поводу всеобщего разоружения;
из добровольного общества «Малолетки в борьбе с курением»: следует ли за курение усекновлять, или ограничиться рудниками (10 баллов), а также, какой сорт я предпочитаю (50 баллов по шкале Рихтера);
из либерального движения «Хаверим шель Катюша» под транспарантом «Что будем делать против гиюра»;
компания по распространению фейхоа и гуаявы (потребительский опрос – «да» – 10 фейхов, «нет» – 5 гуаяв);
из «Общества защиты детей от подростков» и ангорского комитета борьбы с сиамскими кошками.
Мне пробовали продать по телефону (сообщив номер моей кредитной карточки и предоставив мне принести на верность банковские гарантии) – клаб-трактир «На Новой Земле» на сверхвыгодных условиях; моющее средство, постепенно завоевывающее мировой рынок и как я посмотрю на это; членство в одной полувоенной организации «Сыны и дочери Че Гевары» за четвертак в месяц, явка со своим личным оружием и бронетехникой; книги Рабиновичкришны «Нирвана на дому» и «Вишну, каким я его знал»; слепую суку лабрадора, только что окотившуюся (совершенно здоровенькими пекинесами, 6 штук, вы сами не понимаете, от чего вы отказываетесь, вы еще, Генделев, 50-го года рождения, номер военного билета такой-то, пожалеете!).
Они звонят во время глубоководного погружения вашего внимания в суть дурацко-аналитической статьи, звонок извлекает вас из-под душа – отвлекая от, в лучшем случае, Мойдодыра. Они будят вас, когда они хотят, а не вы хотите, когда накрыт стол, когда вы объясняетесь в любви, молитесь или взвешиваетесь, опохмеляетесь, стрижете оволосенье. Они звонят, но ведь и в дверь тоже: со своей статистикой покупательского спроса, обследованиями с пальпацией пресловутого общественного мнения и выяснениями среднего количества коитусов за истекший период.
Ну хорошо – ко мне в мансарду взобраться может только очень инициативный и физически подготовленный статистик, опросчик, коммивояжер, адвентист, проповедник и праведник. Ко мне не каждый полицейский-то взойдет! Кредиторы опадают как настурции в засуху! Но некоторые, которых я не то что не знаю в лицо, но и знать-то не хочу – долазят.
Но невинный владелец телефонного аппарата – беззащитен!
Перед – симпатичными, в меру интеллигентными, порой милыми юношами и девушками (на которых и наорать-то неудобно, ибо: «Что делать, ведь это их работа, это их кусок хлеба и деньги на получение образования, жить-то надо»), задающими вам абсолютно бессовестные и порой не такие уж травоядные вопросы, на которые вы – не особо разобравшись – еще и даете вполне интересные ответы, особливо, что информация – вещь двусмысленная. Иногда обоюдоострая, смотря в чьи руки она попадает, а если даже она, информация, попадает в стерильно-кристальные лапы нанимателей этих юношей и юниц, то ведь все равно – они поломали ваше право на себя, вашу тишину, вашу музыку сфер.
По какому такому праву?
И наконец, откуда они, а верней их работодатели, узнают ваши персональные данные – на которые данное право знать – есть только у государства. Право, вами добровольно отданное, переданное государству и только государству – адрес, телефон, пол, возраст, социальный статус, номер удостоверения личности? Почему им покорно, без принуждения сообщается номер вашего банковского счета, номера страховых полисов? (Потому и агитаторы на выборах топают целево по домам с разного рода неприличными предложениями).
Откуда, например, страховым компаниям известен номер моего телефона, если номера нет ни в одной телефонной книге? Откуда фирма по изучению потребительского спроса знает, как меня зовут и какой этаж я оккупейтед?!
Почему известно компании по поставке зубной пасты, сколько у меня зубов? Я понимаю, что им есть до этого дело, но кто им об этом рассказал?!
Почему мы условно-анонимно рассказываем посторонним людям, как, на что и зачем мы живем – я еще как-то понимаю (интерес к своей персоне льстит и у некоторых до фига свободного времени), но я не понимаю, с чего это подобная деятельность (звонок по телефону, звонок в дверь и звонкое бряцанье статистики) – безнаказанна!
И как сходит с рук неразделенный в 8 часов утра интерес к членству вас в обществе собаководов, и что вы по этому поводу думаете.
Сбор сведений о нас – не невинное коммивояжерство. И коммивояжерство – совсем не невинно, когда производится по адресам с точностью до номера «теудат зеута», с точностью до номера телефона, который хранится в редакции и который отсутствует в телефонной книге.
Ведь даже присутствие номера в телефонной книге – еще не повод для знакомства.
Когда я с утра люблю, чтоб до полудня, кроме кофе, газетки, сигарет и вида на небо из моей мансарды… Я люблю, чтоб было тихо.
И номер телефона – редакционная тайна.
Новости
На сайте опубликовано мемуарное эссе В. Тарасова «Ступенчатый Свет», посвященное А. Волохонскому, М. Генделеву, альманахам «Саламандра», творчеству автора и многому другому.
